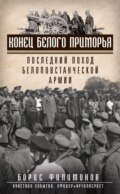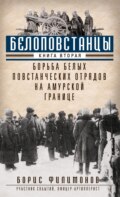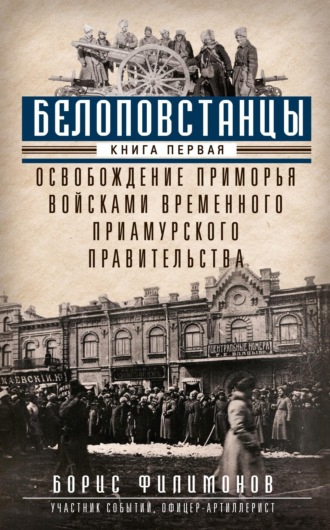
Борис Филимонов
Белоповстанцы. Книга 1. Освобождение Приморья войсками Временного Приамурского правительства
IV
Войска Временного Приамурского правительства
Состав Армии в Приморье. – Общий вид организации. – Начальники и подчиненные. – Постановка снабжения и хозяйственной части
Осколки различных частей белых армий Восточного фронта, счастливо избегнувшие пленения за время своего движения через Сибирь, проделавшие так называемый Сибирский Ледяной поход, в течение которого за ними установилось прозвание каппелевцев, проскочив в Забайкалье, по соединении там с частями атамана Семенова, так называемыми семеновцами, образовали Дальневосточную армию (белую), которая по оставлении Забайкалья в ноябре 1920 г. почти целиком прошла в Южное Приморье, где впоследствии ее части получили официальное наименование Войска Временного Приамурского правительства.
Общая численность Белой армии по прибытии ее в Южное Приморье доходила до 30 тысяч человеческих ртов и нескольких тысяч лошадиных. Многие годы походов, для одних начавшиеся еще в Великую войну, а для других в Гражданскую, давно оторвали чинов армии от родного очага и мирной жизни. С домом у них фактически все было порвано, казалось бы, что из них мог бы выработаться тип кондотьеров, но этого не случилось, и своей массой они остались честными гражданами России и терпимо относились к населению, недоброжелательно и даже враждебно к ним настроенному.
Огромное большинство чинов Белой армии были родом из Приуралья, с берегов Волги, Камы, отчасти из Западной Сибири и Забайкалья. Уроженцев Средней и Восточной Сибири было немного. Обитателей Амурской и Приморской областей – всего лишь горсть. Населению Приморской области, состоящему главным образом из украинцев, бойцы Белой армии были «чужими». Исключение составляли только казаки оренбургцы и забайкальцы, нашедшие здесь своих сородичей.
Случай, преданность Белому делу, пассивность и упорство привели чинов Белой армии из столь отдаленных краев в Приморье, многие «практичные» люди, не видя впереди никакого просвета, бросали расстроенные ряды белых войск после Ледяного Сибирского похода или оставления Забайкалья. В рядах остался тот, кто жил борьбой с большевиками, кто продолжал твердо верить в скорое воскресение России, а пока считал нужным продолжать службу в кадрах будущей Русской армии, тот, кто не решался или не желал самостоятельно бороться с жизнью вне рядов войск. Много было и таких, кто, не задаваясь высокими целями, довольствовался настоящим и жил, пока его кормили. Наконец, попадались единичные хищники, кои были не прочь пожить вволюшку на остатки казенных средств, а при случае и погреть свои руки. Следует отметить, что после майского переворота 1921 г., когда в Приморье образовался Белый центр, некоторые из оставивших ряды войск вновь вернулись на службу в свои части.
Осколки молодой русской армии, развернувшейся из добровольческих отрядов и частей народных армий 1918 г. (Сибирской и Народной), до последних дней своих сохранили характерную особенность своей юности – крепчайшую духовную связь между начальником и подчиненным, происходившую от полной общности интересов, а нередко и близких отношений, предшествовавших службе под белыми знаменами. В тяжелой обстановке фронта и ближнего тыла трудами и энергией молодого русского офицерства были созданы белые части Восточного фронта. Волею судеб представители солидного русского генералитета в этой работе участия не приняли. Здесь уместно отметить то, что к этому времени офицерство состояло из бесчисленного ряда лиц различных классов, профессий, взглядов, убеждений и интересов. К тому же солдатами вначале были только добровольцы и самомобилизовавшиеея – учащаяся молодежь, казаки, крестьяне и рабочие. В результате взаимоотношения чинов оказались непринужденными, но вместе с тем, при отсутствии ряда формальностей, воинские чины были скованы на фронте строгой и даже суровой дисциплиной. Равномерного распределения офицерства по частям вначале не было. Не удалось его провести высшему белому командованию и в 1919 г., равно как и превратить добровольцев народных войск в солдат регулярной армии. После красноярской катастрофы Белая армия по существу своему вновь стала чисто добровольческой, но подъема, как то было в 1918 г., уже не было в ее рядах. Части, пришедшие в Приморье, хотя и сохранили свой облик добровольческих и народных частей, тем не менее, под влиянием неудач и катастроф, этот облик принял все же искаженные формы.
Нет и не может быть ничего удивительного в том, что при описании воинских частей Временного Приамурского правительства приходится наталкиваться на ряд явлений, чуждых понятиям старой Русской армии. Часть этих явлений, как указано выше, явилась как продукт новых взглядов на вещи и новых отношений, другая часть – болезненна по существу своему. Вместе с тем в частях Белой армии 1921 г. сохранились также и многие положительные черты старой Русской армии.
Еще в Забайкалье количество бойцов в частях не соответствовало их «классу», если так можно выразиться. При проходе через полосу отчуждения КВЖД ряды полков еще более поредели. Раскол на две враждебные группировки вконец расстроил порядок, ибо многие части распались совершенно или же раскололись на две части.
До отъезда атамана Семенова из пределов Приморья, последовавшего 13 сентября 1921 г., существовало два не зависящих друг от друга высших органа управления войсками: штаб главнокомандующего всеми вооруженными силами Российской Восточной окраины и штаб командующего Дальневосточной армией. Первый находился в Гродеково, второй – сначала в Никольск-Уссурийском, а позднее во Владивостоке.
К лету 1921 г. в Приморье в подчинении главнокомандующего находилась только одна Гродековская группа войск, возглавляемая генерал-лейтенантом Савельевым. В состав этой группы войск входили: все казачьи части и части 1-го корпуса, пришедшие в Приморье (часть забайкальцев осела в районе Хайлара в полосе КВЖД), и две стрелковые бригады, выделившиеся из состава 2-го и 3-го стрелковых корпусов.
В подчинении командующего Дальневосточной армией (генерал-лейтенант Вержбицкий) находились 2-й Сибирский стрелковый (генерал Смолин) и 3-й стрелковый (генерал Молчанов) корпуса. В состав этих корпусов входили только стрелковые и кавалерийские части, не перешедшие весной в Гродековскую группу.
Организация подразумевала подразделение корпусов и Гродековской группы войск на бригады, полки, батальоны, роты и т. д. Так все это и было на бумаге. На деле же многие полки, состоящие из двух-трех рот, в действительности представляли собой один батальон, причем роты нередко имели по 15–20 рядов. В непосредственном подчинении штабов корпусов и Гродековской группы имелся ряд мелких единиц до отдельных рот, сотен и взводов включительно. Коротко: лето 1921 г. – время мелких отдельных частей, делающих весь аппарат управления и снабжения громоздким, увеличивающих штабы и управления за счет людей в строю. Отдавая должное, следует отметить, что по приходе в Приморье генерал Смолин свел свой корпус в дивизию, сократив таким образом число штабов, но позднее дивизия вновь была превращена в корпус.
Только что описанная громоздкая и неправильная организация сохранялась по следующим мотивам:
1. Как указано выше, части 1921 г. являлись осколками когда-то значительных частей. Каждый осколок старался сохранить себя отдельной единицей до того светлого времени, когда он сможет вновь развернуться.
2. Командиры и начальники, привыкнув командовать крупными частями, инстинктивно цеплялись за «класс» своей части, а потому понижение «класса», то есть сведение частей в менее крупные единицы, во многих случаях влекло за собой уход на покой или откомандирование в штаб ряда лиц, пребывание коих на не соответствующих их чину должностях противоречило психологии чинов армии.
3. Командиры частей определенно не желали терять свою хозяйственную автономию.
Сохранение старых территориальных наименований частей определенно преобладало, и не только полки, но батальоны, роты и эскадроны сохраняли наименования тех полков, каковыми они были в 1918–1919 гг. Бригады же, образуемые от слияния сведенных в полки бригад, получали обобщающие наименования. Так появились: Поволжская, Ижевско-Воткинская и Сибирская бригады. Каппелевские части, переходя в состав Гродековской группы войск, сохраняли свои старые наименования (Егерский, Уральский, Добровольческий полки, Красноуфимский, Камский конные дивизионы).
О внешней подтянутости, выправке, однообразной форме одежды говорить не приходится. Хотя все белые бойцы ходили в погонах и в растерзанном виде солдаты сами не любили появляться, тем не менее особых требований в этом отношении не проявлялось и предъявлять было нельзя, так как армия после своего прихода в Приморье обмундирования и жалованья не получала.
Если занятия с офицерами и солдатами в некоторых частях и производились, то в большинстве случаев к ним относились несерьезно. Осенью 1921 г. во Владивостоке имел место следующий случай, ярко характеризующий психологию белых бойцов: когда одну из белых частей гарнизона вывели на занятия (рассыпной строй), солдаты оказались премного обиженными: «Как? Всю Сибирь прошли, столько лет воюем, а тут опять учить то, что мы и так хорошо знаем?»
По уставу полагалось отдание чести всем генералам и офицерам без остановки во фронт, но на практике солдаты отдавали честь только офицерам своей части и тем из «чужих» офицеров, которые при больших чинах солидно выглядели. Недоразумений на этой почве не происходило, ибо офицеры считали вполне нормальным, что их приветствуют только свои солдаты.
Переходы из одной части в другую и выходы на сторону одно время происходили зачастую самовольно и, за редким исключением, проходили безнаказанно. Некоторые командиры и начальники сами переманивали к себе офицеров и солдат в целях пополнения или развертывания своих частей. Только в редких частях не принимали самовольно переходящих.
Ясное представление о численности и организации белых частей дает следующая сохранившаяся таблица:
Численный состав гарнизона Раздольного 6 марта 1921 г.

В вышеприведенной таблице в графе «Воткинцы» показаны Воткинский стрелковый полк и Воткинский конный дивизион. Камский стрелковый полк не показан совсем, надо полагать, что камцы включены в число уфимцев; во всяком случае, в это время камцев было очень немного – они представляли собой батальон под командой капитана Васильева.
Во главе Белой армии в Приморье стояли молодые генералы. Вышедшие на Великую войну в обер-офицерских чинах, они остались совершенно неизвестными широким массам в течение ее. В Гражданскую войну они выдвинулись, но и здесь ни один из них не занимал столь видного положения, чтобы стать авторитетом для всей Дальневосточной армии. Генералы Молчанов и Смолин командовали на Уральском фронте дивизиями, генерал Бородин был в то время командиром полка, а генералы Савельев и Глебов только в дни крушения Белой армии в Забайкалье (1920) были произведены в генералы. Один генерал Вержбицкий имел за собой командование более крупными силами, именно во время весеннего наступления 1919 г. он командовал Южной группой Сибирской армии, действуя в направлении Сарапул – Казань.
Претендентами на высшие посты являлись – генералы Лебедев (бывший при адмирале Колчаке наштаверхом до весенней катастрофы на фронте), Лохвицкий (бывший командармом 1-й осенью 1919 г.), Бангерский (комкор 2-го Уфимского), но и они также не обладали достаточным весом и достаточной объективностью, дабы смирить враждующие группировки.
В прошлом Белой армии было слишком много вольных и невольных перемен в высшем командовании (Гришин-Алмазов, Иванов-Ринов, Болдырев, Лебедев, Гайда, Дитерихс, Сахаров, Каппель, Войцеховский, Лохвицкий, Вержбицкий), чтобы оно способствовало укреплению авторитета командующего просто даже как понятия. Все казалось и считалось легко сменимым и заменимым. В обстановке русской революции и Гражданской войны создался тип «атаманов» – неограниченных и не ответственных ни перед кем маленьких владык. Болезнь эта к 1921 г. окончательно поразила организм Дальневосточной Белой армии и самые ярые противники атаманов превратились фактически в атаманов. Соревнование начальников приняло в это время совершенно недопустимые формы и вело к постоянному несогласию. Особенно были черны дни Раздолинского сидения. Обливая грязью своих противников, самые старшие начальники упускали из виду то, что этим самым они сами погружались в грязь. В свои дрязги они стали втягивать офицеров и даже солдат.
Значительная ценность каждого бойца, как результат малочисленности частей, неудачи, частые перемены в командовании, отсутствие самого необходимого из пищи и одежды, вырывали почву из-под ног начальника и заставляли его подчас смотреть на некоторые провинности подчиненного сквозь пальцы. Результат не заставил себя долго ждать – воинские чины стали распускаться.
Бессистемные производства и награждения орденами, наличие отдельных самозванцев, как результат массовой затери послужных списков, вели к тому, что каждого командира, офицера и солдата ценили его начальники, равные и подчиненные постольку, поскольку он был ценен сам по себе, а не по тому чину или званию, которое он носил.
Разделение на каппелевцев и семеновцев, приведшее очень скоро к полному расколу, явилось скорее результатом соревнования начальников, чем антагонизма масс. Действительно, несмотря на ряд эксцессов, падающих на время наибольшего затемнения мозгов, отношение общей массы офицерства и солдат, как каппелевцев к семеновцам, так и семеновцев к каппелевцам, было вполне терпимо.
Все действия начальства, с легкой руки самих командиров, подвергались нещадной критике. Младший офицер в ответ на приказание мог получить молчок, в худшем случае – грубость. Положение обер-офицеров было неважно. Отчасти это объясняется тем, что многие офицеры, получив чины за боевые отличия, панибратствовали со своими друзьями-солдатами. Наличие офицерских рот почти в каждом полку способствовало подобному «равноправному» отношению. Вместе с тем, видя, что офицер делает все то же, что и солдат, то же ест, так же спит, солдаты болше доверяли офицерству, не имели повода видеть в нем барина, впрочем, многие офицеры барами никогда и не были. Вера друг в друга была полной. В своих солдатах все офицеры были твердо уверены. Боевые приказания всегда исполнялись быстро и беспрекословно. Браня подчас свое начальство, солдат все же верил ему и шел за ним.
При наличии не зависящих друг от друга двух командований вполне естественно существование двух главных интендантств в Белой армии. Одно из них находилось в Гродекове и снабжало части Гродековской группы войск, другое (армейское) после переворота обосновалось во Владивостоке и стало ведать снабжением правительственных войск (генерал-майор Бырдин). Такое положение существовало до тех пор, пока у атамана Семенова имелись средства для прокормления своих частей. Позднее, вследствие острого недостатка продуктов питания, многие гродековские части, оставаясь в оперативном подчинении штаба главнокомандующего, устраивались на довольствие к Приамурскому правительству и получали продукты от каппелевского интендантства. Долго продолжаться такое положение, конечно, не могло, и к осени все гродековские части оказались не только на довольствии у правительства, но и на службе у него.
Питание частей, находившихся на довольствии у правительства до Хабаровского похода, было достаточным. Части получали 2½ фунта хлеба (половина белого, половина черного), в обед – суп, вечером – кашу, но различная мелочь интендантством недодавалась, и средств на приобретение оной не отпускалось. Гродековские части, не перешедшие на довольствие к правительству, летом 1921 г. голодали форменным образом, и местное население из сострадания прикармливало голодных солдат и офицеров. Из гродековского интенданства эти части получали только рис и отвратительной выпечки черный с отрубями хлеб. Конский состав гродековских частей довольствовался исключительно подножным кормом и к осени 1921 г. пришел в полную негодность. Особенно ужасный вид имели кони Забайкальской казачьей дивизии.
Армия, потерявшая значительную часть своего имущества в эшелонах, брошенных при отходе к ст. Маньчжурия, распродала и размотала другую часть его по линии КВЖД. В Приморье в марте и апреле 1921 г. гродековские части получили дрелевое, желтое обмундирование и сапоги. Ожидались шитье и выдача шинелей. Каппелевские части в это время ничего и ни от кого не получали. После майского переворота положение изменилось. В руках каппелевского интендантства оказались некоторые интендантские склады в городах Владивосток и Никольск, бывшие доселе в распоряжении красных. Части, находившиеся в подчинении каппелевского командования, получили белье, тонкий зеленый шевиот и шинельное сукно. Частям, поступавшим на довольствие к правительству позднее, но не вошедшим в подчинение каппелевского командования, двери интендантстских складов открывались не так уж широко. 1-я стрелковая бригада и Оренбургская казачья бригада получили синий демсин, а шевиот им выдан не был. Между прочим, 1-я стрелковая бригада шевиота не получила даже летом 1922 г., хотя на складах шевиот имелся. Наиболее обделенными оказались части Забайкальской казачьей дивизии и гродековцы (позднее 3-я пластунская бригада). Эти части не получили ни шевиота, ни демсина под предлогом того, что весной им было выдано атаманом Семеновым дрелевое обмундирование. Шинельного сукна они не получили уже без всяких предлогов.
Жалованием части Гродековской группы войск были удовлетворены по март или апрель 1921 г. (установить точно не представляется возможным) золотом, согласно ставок 1920 г. Оклады были мизерны, так рядовой стрелок получал рублей 15, офицер-боец – 26 рублей, младший офицер – 28, командир отдельной части – около 40. Из-за отсутствия денежных сумм в дальнейшем части Гродековской группы войск жалованья больше не получали, каппелевские части по этой причине жалованья после отхода из Забайкалья совсем не получали. После переворота Временное Приамурское правительство утвердило оклады жалованья чинам войск (приблизительно такие же, как были в Забайкалье). После этого части стали заготовлять требовательные ведомости и посылать их во Владивосток, но, так как наличность в казначействе была все время весьма малой, ассигновки гасились мелкими частями, а посему и чины в частях получали жалованье по частям.
V
Прошлое и настоящее белых частей
Ижевцы и воткинцы. – Уфимцы и камцы. – Волжане. – Остатки отдельной Красноуфимской добровольческой бригады. – Омцы. – Барнаульцы и пепеляевцы. – Иркутцы. – Конно-егеря Манжетного и красноуфимцы. – Уральцы. – Егеря. – Конно-егеря Глудкина. – Добровольцы. – Маньчжурцы, конвойцы и уссурийцы. – Кавалеристы. – Амурцы. – Иманская сотня. – Атамановцы. – Забайкальцы. – Енисейцы. – Сибирцы. – Оренбуржцы. – Железнодорожники. – Сибирская флотилия
Для того чтобы полнее и ярче обрисовать весь облик частей и бойцов белоповстанческих войск, следует коснуться каждой из пришедших в Приморье частей Белой армии.
С именем ижевцев и воткинцев связана одна из героических страниц белой борьбы – стихийное движение приуральского крестьянства и рабочих против большевизма. Недалеко от Камы, немного выше г. Сарапула, находятся два старинных завода: Ижевский и Камско-Воткинский. Ижевский завод состоял из двух отделений – оружейного и сталелитейного. Этому заводу Российская Императорская армия была обязана своим перевооружением трехлинейными винтовками. Камско-Воткинский судостроительный завод являлся вспомогательным к Ижевскому. Заводское население отличалось зажиточностью, крепким семейным укладом, честностью и религиозностью (большинство было староверами). Главное занятие жителей этих заводов, кроме чисто заводского, составляли кустарные промыслы. Воткинский завод славился своими самоварами, тарантасами и производством кожаной обуви. Ижевцы изготовляли пистонные одноствольные ружья, столовые приборы высших сортов, обувь и кружева.
Едва занималась заря 7 августа 1918 г., на Ижевском заводе тревожно загудел гудок – большевики объявили мобилизацию рабочих для похода на Казань, занятую частями Народной армии. Не в добрый час для себя объявили большевики о мобилизации: глухое недовольство, исподволь нараставшее в среде рабочих-ижевцев, прорвалось, и советская власть была свергнута. 17 августа к ижевцам присоединились воткинцы. Рабочие и самомобилизовавшееся крестьянство прилежащих районов своими силами создали Ижевскую и Воткинскую народные армии. Весь командный (офицерский) состав был выделен восставшими из своей среды. Позднее Ижевская и Воткинская народные армии были переформированы, первая в бригаду, вторая в 15-ю дивизию. Ввиду недостатка в частях офицеров к ижевцам и воткинцам постепенно прибывали офицеры, не принадлежавшие к уроженцам и жителям заводов и края, но, войдя в добровольческие рабочие части, все эти офицеры быстро и всецело восприняли дух частей. С весны 1919 г. имя ижевцев неразрывно связалось с именем полковника, позднее генерала, Молчанова. Герой восстания и обороны Воткинска штабс-капитан, позднее полковник, Юрьев, стяжавший горячую любовь всех своих подчиненных, поздней осенью 1919 г. по проискам завистников и формалистов был отставлен от командования дивизией и принужден был покинуть свое детище. В дальнейшем во главе воткинцев стоял Генерального штаба полковник фон Вах, принявший дивизию во время Сибирского Ледяного похода. Следует отметить, что в 15-ю Воткинскую дивизию в августе 1919 г. была влита 16-я Сарапульская дивизия, сформированная в г. Екатеринбурге весной 1919 г. из призванных молодых возрастов жителей Прикамья. Будучи слитыми, новые части очень быстро составили одно целое, нерушимое и крепкое, причем сарапульцы приняли дух и имя воткинцев. Имена ижевцев и воткинцев гремели на Урале и в Сибири – это были воскресшие курени запорожцев. На запорожцев они походили не только своими сплоченностью, доблестью, отвагой, но также взаимоотношениями чинов и внутренним распорядком жизни в частях.
Мало походили они на регулярные части, взаимоотношения офицеров и солдат между собой были несравненно проще, нежели у казаков; в своей дружественности они граничили даже с некоторой развязностью в обращении. Суворовский завет «Сам погибай, а товарища своего выручай» проводился в жизнь частями, и только в самых исключительных случаях тяжелой боевой обстановки от них можно было ожидать оставления врагу тел своих павших или раненых однополчан.
Порваны цепи кровавого гнета,
Гневно врага уничтожил народ,
И закипела лихая работа,
Ожил рабочий, и ожил народ.
Молот заброшен, штыки и гранаты
Пущены в ход молодецкой рукой.
Чем не герои, чем не солдаты
Люди, идущие с песнями в бой?..
Люди, влюбленные в светлые дали,
Люди упорства, отваги, труда,
Люди из слитков железа и стали,
Люди, названье которым – руда.
Кто не слыхал, как с врагами сражался
Ижевский полк под кровавой Уфой?
Как с гармонистом в атаку бросался
Ижевец, русский рабочий простой?..
Годы пройдут, над отчизной свободной
Сложится много красивых баллад,
Но не забудется в песне народной,
Ижевец, истинный Русский солдат…
Таков марш ижевцев. Добавить к нему можно только то, что воткинцы были единственной частью, которая не бросила своей артиллерии в Сибири. В Читу воткинцы провезли все свои орудия – их было одиннадцать. Правда, отчасти некоторые это объясняют тем, что Воткинская артиллерия шла не в общей артиллерийской колонне полковника Беренца, а со своими полками, чины которых в трудную минуту вытаскивали орудия.
Символом неразрывной связи со своими заводами – железом и сталью – у ижевцев и воткинцев считался синий цвет – цвет их погон, выпушек, петлиц. Буквы «Иж» были на погонах ижевцев, буквы «Втк» – у воткинцев. Галунных погон офицеры и подпрапорщики ижевско-воткинских частей никогда не носили: на тех же синих погонах были белые просветы, зигзаги, канты.
Среди частей Белой армии в Приморье имелись следующие ижевско-воткинские части: 1) Ижевский стрелковый полк, 2) Воткинский стрелковый полк, 3) Воткинский конный дивизион, 4) Отдельная Воткинская конная батарея и 5) Воткинская стрелковая легкая батарея.
Ижевский стрелковый полк в Приморье насчитывал в марте 1921 г. по своим спискам 640 ртов, из них 86 офицеров, 509 солдат, 34 женщины и 11 детей. В ноябре 1921 г. на фронт полк выставил 430 строевых и 73 нестроевых чина. Полком в это время командовал скромный, но боевой и распорядительный полковник Зуев. Командиром 3-го батальона был ротмистр Багиянц – гордость полка. Конных в полку было немного – всего около 40 человек. В полку имелось пять пулеметов.
Воткинский стрелковый полк в Приморье в марте 1921 г., совместно с Воткинским конным дивизионом, насчитывал 768 ртов, из них 109 офицеров, 553 солдата, 98 женщин и 8 детей. В ноябре 1921 г. на фронт полк выставил 268 строевых чинов и 73 нестроевых чина. В эти цифры включены чины Воткинской конной батареи, но исключены чины Воткинского кондива. Командиром полка, как было уже указано выше, был полковник фон Вах, прибывший к воткинцам зимой 1918/19 г. Свой полк он крепко держал в руках. Его уважали как боевого и храброго офицера, распорядительного начальника. Конных в полку не было совсем. Пулеметов – шесть.
Воткинская конная батарея. В Приморье отдельной части с подобным наименованием не было. Бывшие чины этой батареи, общим числом 45 человек, входили в состав Воткинского стрелкового полка. С началом движения на Хабаровск они стали обслуживать макленку. Начальником этой команды батареи был поручик Жилин.
Воткинский конный дивизион при выходе на фронт в конце ноября 1921 г. выставил 184 строевых чина, из них 32 офицера. Нестроевых в дивизионе было 4 офицера, 4 чиновника и 29 солдат. В дивизионе было три или четыре пулемета. Командиром был бывший улан, офицер военного времени, подполковник Дробинин – боевой и распорядительный командир. Все остальные офицеры, за исключением двух-трех, были произведены в офицеры из солдат за боевые заслуги.
Воткинская стрелковая батарея, бывшая летом 1920 г. отдельным дивизионом, ввиду переизбытка артиллерии в отдельном Воткинском отряде и полного отсутствия таковой в Омской стрелковой дивизии, была временно придана этой дивизии и так при ней и осталась, даже после перехода Воткинского отряда из 2-го корпуса в 3-й. Батареей командовал бывший командир Воткинского артиллерийского дивизиона – полковник Алмазов, хороший кадровый офицер – Михайлов. В своих рядах батарея насчитывала до 20 офицеров и свыше 120 солдат. Старший офицер батареи, штабс-капитан Стариков, универсант, офицер времени Великой войны, окончил Константиновское артиллерийское училище. Кроме этих двух старших офицеров в батарее было еще несколько офицеров, окончивших артиллерийские училища. Батарея полковника Алмазова считалась одной из образцовых частей Белой армии. Взаимоотношения офицеров и солдат, несмотря на полную дружественность и простоту, отличались значительной выдержкой и корректностью. В Приморье батарея полковника Алмазова входила в состав 2-го Отдельного Сибирского стрелкового артиллерийского дивизиона.
Еще до восстания ижевцев и воткинцев, в июне и июле 1918 г., крестьянские повстанческие отряды при содействии чехов освободили от большевиков почти всю Уфимскую губернию. Впоследствии эти отряды, будучи сведенными в полки, образовали две славные дивизии – 4-ю Уфимскую имени генерала Корнилова стрелковую дивизию и 8-ю Камскую имени адмирала Колчака стрелковую дивизию. Шесть полков из общего числа восьми состояли исключительно из добровольческих повстанческих отрядов, два других полка были сформированы осенью 1918 г., но и они в значительной степени были укомплектованы самомобилизовавшимися. Имена 15-го Михайловского и 30-го Аскинского стрелковых полков, созданных крестьянами тех же волостей, прогремели на Урале. Обе дивизии были не только одними из самых больших в армии адмирала Колчака по количеству штыков дивизий, но также и боевыми, заслужившими недаром свои шефства. Насчитывая в своих рядах от 16 до 20 тысяч бойцов каждая, дивизии укомплектовывались русскими и татарами – жителями бассейна реки Белой и левого берега нижнего течения Камы. Офицеры, за малым исключением, были также местные жители. Так как в этом обширном районе имелся ряд городов и такой большой центр, как Уфа, вполне понятно, что в полках было много офицеров с законченным средним образованием и прошедших курс военных училищ или школ прапорщиков. В марте 1919 г. эти дивизии нанесли главный удар красным, а при отступлении белых в Уральские горы и далее к Челябинску они же принимали на себя удары красных. Под Красноярском они потеряли приблизительно половину оставшихся в строю и по проходе в Читу были сведены в полки. В 1920 г. в Забайкалье самым большим в Белой армии был Камский стрелковый полк, за ним следовал Уфимский. По оставлении белыми Забайкалья на ст. Маньчжурия Камский полк был распущен своим командиром, полковником Воробьевым. Оставшиеся люди Камского полка присоединились к уфимцам, и одно время, весьма короткое, существовал даже по бумагам Камско-Бельский стрелковый полк, но очень скоро он стал именоваться просто Уфимским. В марте 1921 г. в Раздольном под командой полковника Сидамонидзе находились 121 офицер и 653 солдата – это было все, что осталось от двух когда-то больших дивизий.
Как стрелковые части, уфимцы и камцы имели малиновые погоны, выпушки и петлицы. Под адмиральским орлом камцы носили «АК» – «Адмирал Колчак», уфимцы – переплетенный вензель «4УГКп» – «4-й Уфимский генерала Корнилова полк».
К осени 1921 г. в Приморье имелись следующие уфимские и камские части: 1) 4-й Уфимский стрелковый полк, 2) 8-й Камский стрелковый полк, 3) 1-й стрелковый артиллерийский дивизион и 4) отдельный Камский конный дивизион.
4-й Уфимский стрелковый полк, при выходе на фронт в первых числах января 1922 г., выставил до 450 штыков. Трехбатальонного состава, полк состоял из восьми стрелковых рот и команды разведчиков, которая как бы являлась 9-й ротой. Полк почти поголовно состоял из татаро-башкир, бойцов отчаянных, бесстрашно кидавшихся на неприятельские линии. Ядром полка являлись люди 13-го Уфимского стрелкового полка, который под именем 1-го Уфимского пехотного полка начал формироваться в июле 1918 г. в г. Уфе. Чинов 16-го Уфимского и славного 15-го Михайловского полков, взятых вместе, в рядах 4-го Уфимского полка было меньше, нежели чинов 13-го Уфимского. Чинов 14-го Уфимского в Приморье в рядах Уфимского полка было всего лишь горсть – этот полк почти целиком остался под Красноярском. Как было указано выше, через полосу отчуждения КВЖД Уфимский полк прошел целиком. Полк этот не разваливался и не расползался в стороны, чему во многом обязан был полковому мулле. Командиром полка был молодой, но превосходный и боевой офицер – полковник Сидамонидзе, проведший всю Гражданскую войну в рядах 13-го Уфимского полка, где службу свою начал с фельдфебеля офицерской роты. Полк принял он в самом начале Сибирского похода, в районе Ново-Николаевска.