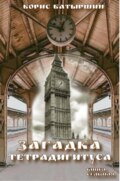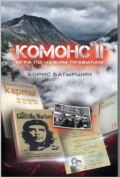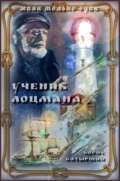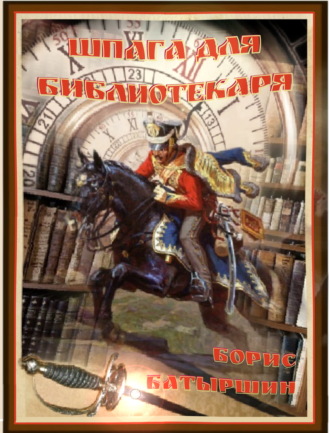
Борис Батыршин
Шпага для библиотекаря. Книга 1
VI
Незваные гости оказались мужиками неопределённого возраста – где-то от тридцати до пятидесяти. До глаз заросшие проволочными бородами, в бесформенных шапках, рубахах, подпоясанных один плетёным пояском, другой и вовсе куском верёвки, портах и лаптях с онучами. Крестьяне? Скорее всего, только уж очень несовременные. Но и на средневековых, особенно европейских, пейзан не похожи, обыкновенные крепостные мужики, века восемнадцатого-девятнадцатого. А может, и того раньше – в России в плане деревенского быта мало что менялось со времён царя Гороха.
Позади этой парочки держится пацанёнок лет двенадцати. Босой, нос в веснушках, в глазёнках – отчаянное любопытство пополам со страхом. Стоят, не решаясь пересечь ясно видимую границу «аномалии», там, где пыльная, но всё же зелёная трава сменяется раскисшей бурой глиной с почти уже оплывшими сугробами.
Я шагнул с крыльца навстречу «крестьянам». Рафик и Гжегош шли за мной. Они увидели, конечно, наган и теперь косились на меня с подозрением. Но вопросов не задавали – не время сейчас, не при посторонних.
Визитёры при виде нашей боевой тройки попятились. Тот, что постарше, мелко закрестился, и я с опозданием сообразил, что следовало, пожалуй, выйти одному.
– Чего хотели, люди добрые? – крикнул я. – Да вы проходите, не стесняйтесь. У нас тут, правда, не прибрано, уж извините…
И запнулся, увидев, что слушатели приоткрыли рты и смотрят куда-то поверх моего плеча. Челюсти у обоих отвисли, в глазах плещется неприкрытый страх. Тот, что стоял чуть впереди, постарше, снова торопливо закрестился.
Я бросил быстрый взгляд назад – и едва не расхохотался. Далия, ну конечно! Наша представительница солнечной Африки не сумела сдержать своё любопытство – и вышла на крыльцо. Вид у далии более, чем эффектный – ярко-красная «адидасовская» куртка, такие же спортивные штаны, что смотрится крайне эффектно в сочетании с тёмно-кофейной кожей; волосы, заплетённые мелкими косичками и, конечно, ослепительная, во все тридцать два зуба-жемчужинки, улыбка.
– Салют ле гастонз! – жизнерадостно заявила она и сделала гостям ручкой. При этом тонкие медные и латунные браслеты, во множестве украшавшие её запястье, мелодично звякнули. – Коман тале ву?[7]
Не знаю, чего они испугались больше – Далии, нашего, явно непривычного для них облика, общей непонятности ситуации – а только все трое молча повернулись и кинулись наутёк. И чего приходили, спрашивается? Ехали себе мимо, никто их не трогал…
Пацан и один из взрослых ломанулись через дорогу, в ельник; третий, тот, что крестился, запрыгнул на телегу, хрипло заорал и огрел лошадь кнутом. Та прянула с места и пошла рваным галопом; возница сидел, свесив ноги, кричал что-то и крутил кнутовищем над головой. Но упорядоченного отступления не получилось: перепуганная савраска прянула вбок, торчащая ось зацепила столб ограды – треск, испуганный вопль и телега с грохотом заваливается на бок. Оторвавшееся колесо ещё метров десять катится по дороге, пока не успокаивается в траве, на обочине.
Неудавшийся гонщик кубарем слетел в пыль, вскочил и, сломя голову, метнулся прочь. Рафик подскочил ко мне – глаза бешеные, руки трясутся от азарта.
– Никита, ара, дай револьвер, а? Я его сейчас…
Ну, не ожидал я от него такой прыти! Хорошо, успел в последний момент подбить вверх руку с наганом, который Рафик как-то исхитрился выдернуть у меня из-за пояса. Грохот выстрела, пуля уходит в белёсое небо. Беглец наддал, разом удвоив скорость, и с треском вломился в кусты на другой стороне просёлка.
Я выкрутил револьвер из пальцев незадачливого стрелка. Рафик охнул от боли – и правильно, взял, понимаешь, манеру ствол без спроса мацать…
– Ты что, совсем дурак? Чем он тебе не угодил, горячий армянский парень?
Но он и сам уже понял, что сделал что-то не то.
– Не убивать собирался я его убивать, мамой клянусь! Только припугнуть хотел, «стой, мол, стрелять буду!» Извини, да?
«… оправдывается? Уже хорошо…»
– Ладно, проехали. Но впредь, чтоб без моей команды – ни ни! Самджа?
– Ладно. – ответил, помедлив, Рафик. – Ачха, то есть.
«Самджа» – значит «понял». На хинди, кажется. Мы с Рафиком подцепили эти словечки у студентов-индусов, еще на первом курсе. А что? Эффектно так звучит, загадочно, девчонки удивляются…
Хороший он парень, Рафик Данелян, только резкий чересчур. За таким глаз да глаз нужен, расслабишься – вмиг дров наломает. Они там у себя, в Карабахе, все такие…
Подходим к телеге. Савраска уже успокоилась – опустила голову, щиплет проросшую на обочине травку. М-да, прямо скажем – не иноходец, кожа да кости – вон как рёбра торчат…
Наклоняюсь, поднимаю заднюю ногу. Лошадь недовольно фыркает, но трапезы не прерывает. Как я и думал, подков на этом копыте отродясь не было.
Рафик с Гжегошем тем временем обшарили телегу. Ни дать, ни взять, лоток на Измайловском вернисаже: пустые рогожные мешки со следами муки, деревянное ведро, обшитый кожей хомут, моток сыромятных ремней, потёртых, связанных узлами. Пеньковая верёвка, бережно смотанная. Есть топор на длинной ручке, грубой, деревенской ковки. Наточен, однако, на славу…
Отдельно лежит манерка – нечто вроде плоской жестяной, литра на два, фляги с жестяным же стаканом, надетым поверх деревянной пробки. Такие носили на ремне через плечо, или притягивали ремешками к солдатским ранцам – вон, даже ушки специальные припаяны по бокам – и держали в них воду, или квас. А то и чего покрепче.
Выдёргиваю пробку зубами. В нос шибает густое сивушное амбре. Кто бы сомневался…
– Ну как, ребятки, нашли что-нибудь интересное?
Это тётя Даша. За ней, в некотором отдалении спешат остальные студенты – ну да, всем интересно, что тут за аномалия такая…
В руках у тётки старенькая охотничья тулка-курковка. В «особых фондах» я её не заметил – тоже, наверное, от мужа осталась. А карабинчик-то решила пока не светить…
– Никита, глянь…
Мати протягивает мне шапку, в спешке оброненную одним из беглецов. Колпак из бурого корявого сукна, типичный крестьянский головной убор. А это что?
– Внутри лежало. – пояснила девушка. – Бумажки какие-то, я не стала смотреть. Может, его документы?
Разворачиваю. Мутно-жёлтая довольно плотная бумага – не то, чтобы новая, но и далеко не ветхая. Типографский текст с «ятями» и «ерами», бледные лиловые печати, размашистые хвостатые подписи. Правда, что ли, аусвайс?
Гляжу на солнце – ага, и водяные знаки имеются, правда, едва различимые. Ах, вот оно что…
«Объявителю сей государственной ассигнации платить ассигнацюнный банкъ пять рублей ходячею монетою».
– Это ассигнации, старинные бумажные деньги. Номинал пять рублей, номера и… – я помедлил. – И вот здесь, ниже – год выпуска. Тысяча восемьсот восьмой.
Прочитанное произвело впечатление. Ребята потрясённо молчат, после чего Гена Прокшин неуверенно спрашивает:
– Это что же, начало прошлого века? Девятнадцатого?
– Именно. – киваю. – Раритет, мечта нумизмата.
– Интересные тут нумизматы ездят. – Гжегош издаёт лёгкий смешок. – Страшно подумать, какие могут быть филателисты…
Ребята шутку не поддержали. Я их понимаю: обстановка не располагает к веселью, скорее уж – к невесёлым мыслям касательно собственного будущего. Начали догадываться? Мне-то давно всё понятно… ну, не давно, а с того момента, как увидел ассигнацию.
– Ладно, пошли в дом, – говорю. – Там рассмотрим внимательнее.
Как ни странно, никто мне не возразил. Студенты по одному потянулись к клубу, прыгая через грязные лужи, в которые стремительно превращался новогодний снежный покров. Тётя Даша, чуть помедлив, пошла следом – двустволку она несла на плече. Я помог Рафику выпрячь савраску из обломков телеги (не бросать же скотинку посреди дороги?) прихватил топор, манерку и поплёлся за остальными. Голова гудела, словно чугунный колокол.
«…значит, всё-таки 1812-й? Что ж, можно было ожидать…»
Гжегош помял ассигнацию в пальцах, посмотрел на просвет. Поднёс к самым глаза и сощурился, вглядываясь в что-то совсем уж мелкое.
– Знаете что? Эта ассигнация – не настоящая, поддельная. Такие печатали перед вторжением Наполеона в Россию.
Я поднял брови. Не то, чтобы меня это удивило – я, конечно, знал, что в обозе Бонапарта границы Российской Империи пересекли десятки тысяч фальшивок, сработанных в парижских типографиях. Но в руках их ни разу не держал, только видел в музеях. А уж чтобы вот так, с ходу определить…
– Откуда знаешь, а? – спросил Рафик. Вместо меня спросил. И хорошо…
– Брат увлекается нумизматикой. – ответил, ничуть не смутившись, поляк. – Ну и я тоже немного разбираюсь. Даже монографию на эту тему прочитал – здесь, в Москве, в Ленинке. Смотрите…
Он положил ассигнацию на середину стола, так, чтобы было видно всем.
– У французских подделок бумага плотнее, чем у русских оригиналов. И защитные знаки у них сохранялись лучше, а на подлинниках – быстро истирались, и их было не разобрать. Но нам сравнить не с чем, а потому взгляните вот сюда…
– Ассигнации заверялись тремя подписями – две, директора банка и кассира, на лицевой стороне, и ещё одна, советника правления банка – на оборотной. Писали от руки, чернилами, которые со временем выцветали и становились коричневатыми. А эти сделаны типографским способом. Если присмотреться – заметно.
Я склонился к бумажке. Действительно, подпись тёмно-синяя и читается вполне ясно.
– Ну, и самое явное: орфографические ошибки. Они встречаются не на всех поддельных ассигнациях, но нам повезло.
Он показал кончиком карандаша на верхнюю строчку. Ребята склонились, разглядывая текст.
– Точно! – обрадовался Гнедин. – Буква «л» вместо «д» в слове «государственной». Вот же жопорукие, а ещё европейцы!
– Французы частенько путали эти две буквы русского алфавита. – снисходительно пояснил Гжегош. – Вот и на другой – «холячею» вместо «ходячею». Как видите, признаки очевидны, не ошибёшься.
Что-то звякнуло. Мы обернулись. Мати подковырнула кончиком ножниц подкладку трофейной шапки – и извлекла оттуда небольшой свёрток.
– Тут монеты, тоже старинные!
Гжегош на правах уже признанного эксперта сгрёб находку.
– Медные – русские. – объявил он после небольшой паузы. – Пять полушек и два алтына, это трёхкопеечная монета. Серебряные – французские, достоинством в один франк.
– Настоящие? – заинтересованно спросил Гнедин.
Поляк покрутил монету в пальцах, потом поскрёб кончиком ножа.
– Вроде, серебро… да. Настоящие.
Пока они занимались нумизматическими изысканиями, я завладел бумажкой, в которую монетки были завёрнуты. И – не сдержавшись, присвистнул, стоило только разобрать бледный печатный текст.
Афишка – так в те далёкие времена называли объявления, распространяемые официальными властями. Их расклеивали на афишных тумбах, на заборах, стенах домов, раздавали на рынках. Грамотными, конечно, были далеко не все, но обычно находился кто-то, способный прочесть афишку собравшимся людям вслух. Что до крестьян – они, раздобыв «казённую гумагу» везли её в деревню, чтобы попросить разобрать мудрёные буковки дьячка местной церкви или барского управляющего.
Конкретно эта афишка сообщала, что «обывателямъ и крестьянамъ Смоленской губерніи при приближеніи супостата уводить скотъ, прятать запасы хлѣба и фуража, а ежели нѣтъ такой возможности – предавать огню вмѣстѣ съ амбарами и овинами. А если кто станетъ съ непріятелемъ торговать и доставлять ему разныя припасы, то таковымъ…»
Что именно ожидало тех, кто посмеет пойти поперёк грозного указа, так и осталось непрояснённым – нижний край с частью текста был косо оторван. Зато сохранилась половинка типографски отпечатанного двуглавый орёл и часть подписи: «Генералъ-губернат…»
– Значит, мы всё же оказались в 1812-м году… – медленно произнёс комсомольский вожак. – Вот же не повезло, у меня пятого января неплохое дельце намечалось…
Я едва не выматерился. Вот она, натура фарцовщика: вокруг такие чудеса творятся, а он о своих мелких гешефтах.
– Да. – отвечаю. – Он самый и есть, скорее всего, конец августа. Смоленск взят, Вязьма сдана без боя. Русская армия отступает к Можайску, и совсем скоро должна состояться Бородинская битва.
– Почему ты решил, что Смоленск и Вязьма уже под французами? – осведомилась тётя Даша. Когда мы вернулись в клуб, она на минутку отлучилась к своему ненаглядному Васеньке, и теперь сидела за столом вместе с нами.
Я пожал плечами.
– Простая логика. Крестьяне эти, похоже, возвращались с рынка – в нарушение приказов из этой вот самой афишки. Обычное время по тем временам, кстати – французы, конечно, могли ограбить деревню, но с теми, кто привозил провиант в занятый ими город, обращались вполне комильфо. И даже платили за продукты.
– Фальшивками! – хмыкнул Гнедин.
– Ими самыми. Но и звонкой монетой тоже, иначе, откуда у мужичков французское серебро? Ну и натуральный обмен никто не отменял. Та же манерка с водкой – наверняка выменяли у солдат, чтобы назад возвращаться не насухую.
– А почему те быдлаки… крестьяне, то есть, были одеты, как оборванцы? – Гжегош показал на шапку. – У них тут дуже пеньонзов… куча денег, по тогдашним-то меркам, а сами в рванье!
Я вздрогнул. Остальные-то, может, и не в курсе, но мне-то отлично было известно, что слово «быдлак» – это вовсе не «крестьянин». «Ублюдок», «скотина» – вот, значит, и выглянул на свет вельможный пан Пшемандовский, чьи предки хлопов отродясь за людей не считали.
– Ну, это-то понятно. – сказала тётя Даша. Она завладела обрывком афишки и внимательно рассматривала текст. – Во-первых, в деревнях все примерно так и ходили. У нас в музее есть экспозиция, можете поинтересоваться. Была, конечно, одёжка и понаряднее, из хорошего сукна, даже камки, но её больше на престольные праздники надевали. А тут – с чего им, спрашивается, шиковать? Наоборот, победнее оделись, прежде чем ехать в захваченный пришельцами город. Рассуждение простое: караульные увидят справно одетых мужиков, обыщут тщательнее, чем других, да и обдерут, как липку. А то и где-нибудь на просёлке мародёры позарятся. Если кафтаны и шапки хорошие, богатые – значит, и мошна не пуста, верно?
Я кивнул. Соображает тётка, ничего не скажешь. Одно слово – краевед.
– Уверен, они и лошадь поплоше нарочно выбрали. У французов сильная убыль конского состава, и справную конячку наверняка бы отобрали. Под седло, крестьянская кляча, конечно, не годится, а вот пушки таскать или телеги обозные – вполне.
Тётка встала.
– Надо бы в книгах посмотреть, уточнить даты. В Большой Советской Энциклопедии большая статья о нашествии Бонапарта на Россию, там и схемы движения войск есть. Хотя, кончено, на них наш совхоз – деревня Бобрищи, то есть, – наверняка не отмечен.
И тут меня торкнуло. БСЭ, значит?.. Как наяву возник перед глазами тюк с книгами, извлечённый из лесного озерка…
– Схемы, шмемы… – Рафик хлопнул ладонью по столу так, что сидящая рядом Далия вздрогнула и покосилась на него с опаской.
– Разведать надо, ара! Сейчас коня заседлаю, и двинем…
– Так седла же нет! – сказал Гжегош.
– А нам что, на скачки, а? Сложим в несколько раз одеяло, накинем сверху, подпругу соорудим из чего-нибудь…
– А ты умеешь верхом?
– Обижаешь, ара! Горец я, или где?
«…так, пора вмешиваться в процесс стратегического планирования…»
– Никаких верховых прогулок. – говорю. – В кладовке стоят три велосипеда, на них и поедем. По лесным тропкам и просёлкам – самое то. ТётьДаша, можно?..
– Конечно, Никита. – она улыбнулась. – Велосипеды хорошие, только цепи надо подтянуть и шины накачать. Насос у одного на раме, кажется…
– Ну, тогда… – я обвёл спутников взглядом. – Рафик, ты со мной. Третьим… ладно, решим, когда с великами разберёмся. Гена, пока меня нет, остаёшься за старшего. ТётьДаша, выдай ему карабин и пару обойм, хорошо? Генка – парень толковый, в армии служил, с оружием обращаться умеет.
Тётка кивнула. Гена, услыхав меня приободрился. Гжегош сердито сверкнул на меня глазами, но смолчал. Что, пан Пшемандовский, обидно, что вас обошли выбором? Ну, извините, нет к вам доверия… пока.
– Слушай, а чего это ты распоряжаешься? – влез «альпинист». Странно, до сих пор он предпочитал отмалчиваться… – Между прочим, это меня назначили старшим группы, официально!
В ответ я ухмыльнулся и как бы невзначай положил ладонь на рукоять нагана. Претендент на власть немедленно стушевался.
– Вообще-то, старшая тут я. – кротко заметила тётя Даша. – И по возрасту, и в жизни повидала побольше вас всех, вместе взятых. Да и клубом тоже я заведую, если кто забыл. Но насчёт Никиты – я «за», пусть командует. Девочки… – она повернулась к Далии и Мати, – надо бы произвести ревизию наших продовольственных запасов. Поможете? А вы… – кивок Гжегошу и остальным парням, – чем собачиться тут, ступайте на задний двор. Там Василь Семёныч бочки с соляркой хочет с трактора скатить и припрятать от греха в подвал. Потому как, если Никита прав – больше топлива нам взять будет неоткуда.
«…замечательная у меня всё-таки тётка!..»
VII
– Схватить мер-р-рзавцев и сдать в полицию!
Когда Ростовцев узнал, что деревенские мужички, мало того, что отказались разорять свои дома и уходить из деревни, так ещё и вознамерились помешать отъезду его родителей из имения – он осатанел и хотел тут же, не теряя ни минуты, скакать в деревню, карать бунтовщиков. Если бы не слёзы маменьки и не уговоры старого графа, неизвестно ещё, как дело бы обернулось, поскольку настроен поручик был весьма решительно.
– Какая там полиция… – старый граф безнадёжно махнул рукой. – Отсюда до самого Можайска ни одно исправника не сыскать!
– Тогда перепороть! – предложил поручик. – Для этого исправник не нужен.
– Погоди, Никита. – граф тяжело поднялся с кресла, ишиас ещё давал о себе знать. – Ну, пропишешь им ума в задние ворота – так ведь не пойдёт впрок! Только озлобятся, а ведь нам ещё мать с сестрой вывозить, добро какое ни то… Стоит ли?
– Так что же, спускать?
Зачем? – удивился Андрей Ильич – Побьёте Буонапартия, вернёмся – тогда и спросим за всё. На каторгу пойдёт, негодяй!
– А ежели, сбежит?
– Скатертью дорога. Подохнет где-нибудь под забором, нам же меньше хлопот.
Ростовцев задумался. В словах отца, несомненно, имелся резон.
Маленький отряд успел в имение раньше фуражиров – если верить дворне, которую старый граф рассылал по окрестностям, французов поблизости пока видно не было. А вот настроения бобрищевских крестьян внушали опасение: они собрались на сход, продолжавшийся без перерыва уже вторые сутки. Заводилой выступил староста Аким: уговаривал никуда не уходить, убеждал, что «и под хранцузом жить можно, а добро своё, потом и кровью досталось.
Разорить недолго, а дальше что? Баре, известное дело, в Москву сбёгнут, а нам – с голоду пухнуть?» В общем, по мнению «лазутчиков» – «продался с потрохами супостату и мутит обчество, иуда…»
Наслушавшись этих речей, мужики осмелели. Кто-то предложил потребовать от барина раздать господское зерно по дворам – «им-то всё одно теперя ни к чему». Идея нашла отклик, зазвучали призывы идти разорять усадьбу, и только появление пяти вооружённых до зубов кавалеристов остудило горячие головы.
– Дурачьё вы тёмное, лапотное! Завтра, а то и сегодня здесь будет отряд французских фуражиров – ограбят дочиста, а кого и убьют! Собираться надо и уходить, а вы бунтовать удумали!
Корнет Веденякин, вовремя осознавший, что если позволить действовать Ростовцеву говорить, дело может принять скверный оборот, попытался взять роль посредника на себя. Пока получалось у него неважно – мужики переминались, переговаривались, но продолжали гнуть свою линию.
– Ничо, барин, как-нибудь переживём мы хранцуза. – заговорил Аким. – Давеча вот, мужики из Куркина приезжали, так у были енти… фужеры. Сказывали: обходительные, дурного не делали, за взятое заплатили без запроса казёнными бумажками. Даже серебро, говорят, давали. Так чего ж нам от них бежать?
– На каторгу захотел? – взревел, не выдержав, поручик. – За соспешествование и всякое иное содействие врагам престол-отечества Сибирь полагается, навечно!
– А ты не пужай, барин. – насупился староста. – Мы, чай, пуганые. Своих, так и быть, забирай, мешать не станем. А нас не замай, сами как-нибудь…
Веденякин покосился на Ростовцева. На того было страшно смотреть: на почерневшем лице ходили багровые пятна, из-под густых бровей глаза метали молнии, пальцы судорожно сжимали рукоять сабли.
«…ну, сейчас начнётся! Аким, подлец, уверен в себе – вон, даже шапку не снял перед господами…»
Корнет не ошибся. Поручику до зубовного скрежета хотелось прямо сейчас, без промедления, перепороть дюжину зачинщиков, а коли станут сопротивляться – вздёрнуть на осине.
– Так они, небось врут, эти куркинские!
– Не… – Аким помотал головой. – Они бумажки показывали, которые эти… сигнации. Настоящие, новенькие, ажно хрустят!
– Настоящие и нет – тебе-то почём знать? – презрительно усмехнулся корнет. – Позаритесь – потом не жалуйтесь, что остались без портков!
– Не боись, барин, не будем. А вы езжайте себе с Богом, не доводите до крайности…
Эта неприкрытая угроза, как и нагловатый блеск в глазах старосты, переполнили чашу терпения поручика.
– Ну, хватит болтовни! Ты и ты… – он ткнул пальцем в ближайших мужиков. – Вяжите подлеца, и чтоб покрепче!
Назначенные неохотно вышли вперёд и стали распоясываться – но под тяжёлыми взглядами из толпы замялись и попятились. Это было открытое неповиновение: Ростовцев уже прикидывал, кого рубить первым, когда из-за крайней избы выскочил, размахивая руками, расхристанный, всклокоченный, вопящий во всю глотку мужик.
– Климка, и дядька Пров с сынишкой возвращались из Вязьмы… – захлёбываясь, рассказывал новоприбывший. – Глядь, а на пригорке, там, где бор еловый к самой дороге подходит, дом стоит! Каменный, навроде барского, только поменьше, на крыше загогулина какая-то торчит, из проволоки. И диво-то какое: весь двор снегом завален, ажно по пояс!
– Врёшь… – неуверенно сказал Ростовцев. Мысли о репрессиях его, похоже, оставили. – Врёшь ведь, каналья! Признавайся – те, двое, небось, пьяные, лыка не вяжут?
– Ни-ни, ни синь пороху, вот те крест! – мужик поспешно перекрестился и замотал головой. – А потом, сказывают, люди какие-то чудные из дома того вышли и на них накинулись. Бесы, наверное, а с ними сущая чертовка: кожа бурая, нелюдская, в волосьях козюли[8], лопочет не по-нашему! Ну, мужики, ясно дело, спужались и бежать, даже телегу с конём бросили, болезные… Полдня сидели в лесу, боялись носа показать. Потом пробрались огородами к моей избе, в окошко постучались и всё, как есть, обсказали!
– А что сами-то не пришли? – спросил Веденякин.
– Так это… страху натерпелись, теперь каждого куста боятся. Сомневались: а вдруг те беси уже туточки?
– Надо пойти, глянуть что там за невидаль такая. – решительно заявил Аким. – Вот что, мужики: берите ослопы, вилы и встречаемся у околицы. И Прова с Климкой волоките, пущай покажут…
– А мальца брать?
– Не надо, на кой он нам?
Мужики стали расходиться, неуверенно оглядываясь на Ростовцева со спутниками – те так и не слезли с сёдел, а стояли верхами возле колодца, обычного места деревенских сходок.
Аким обернулся на поручика.
– Вы как, барин, с нами? У вас, вона, и сабли, и пистоли, и даже ружжо имеется. Поможете мужичкам, ежели что…
Картуз – на самом деле, старую солдатскую фуражку без козырька, – она на этот раз стащил с головы и мял в пальцах.
– Эк ты запел… – Ростовцев усмехнулся. – Нет уж, друг ситный: коли бунтовать горазды, то и с бесями сами разбирайтесь как-нибудь. А мне недосуг с вами по кустам бегать. Непременно эти двое пьяные, наплели невесть что. Надо ещё выяснить, за какой такой надобностью они в Вязьму ездили, коли там супостат? Ты, часом, не ведаешь?
Веденякин усмехнулся. Судя по тому, как смутился староста, он очень даже ведал. А может, даже и отправил свои товары вместе с теми двоими – отчего ж не продать, ежели французы готовы платить за провиант серебром и ассигнациями? Мужик есть мужик – дремуч, глуп, что ему страдания Отечества?
Он тронул Ростовцева за рукав.
– В самом деле, поручик, поехали отсюда. Нам ещё ваших вывозить из усадьбы, а фуражиры, и правда, вот-вот нагрянуть могут, ежели, конечно, тот француз не соврал. А зачем ему врать, перед смертью-то?
– Ладно, уговорил… – Ростовцев крутанул на месте коня, едва не снеся крупом старосту – тот едва успел отскочить в сторону. – А тебе, Аким, вот что скажу на прощание…
Он ткнул рукой, с запястья которой, свисала плетёная казачья нагайка, вверх, в облака. Поручик чувствовал, что охватившая его злость на этого, в сущности, неплохого и по-своему неглупого мужика, отступила, и осталась только жалость – жалость к его темноте и жадности, которые, и правда, могут довести до Сибири.
– Господь – он, знамо дело, всё видит, и каждого судит по его прегрешениям. Но то будет после смерти, а покуда жив – найдётся и здесь, кому спросить за все твои грехи. Так что думай, Аким, крепко думай – небось, не поздно пока за ум взяться, покаяться!
«…Я умоляю, как человека,
Эй, генацвале, слушай меня!
Без кинжала, нет абрека,
Нет джигита без коня…»[9]
– пропел я. – Коня тебе взять не позволили, так хоть кинжалом решил обзавестись?
– Слушай, какие джигиты-шмигиты, а? – немедленно обиделся Рафик. – Я тебе что, грузин, чечен? А нож пригодится – ты, вон, с наганом, Гене винтовку дал, даже у тётки твоей ружьё! А мне что же, с голыми руками ходить? Нехорошо это, брат, нечестно!
«…ну да – Кавказ есть Кавказ, война есть война. Стоит только ею запахнуть, и у любого, даже у интеллигентного армянского студента, руки сами тянутся к холодной стали…» Я вспомнил фотографию, которую Рафик прислал мне в девяносто втором. Улыбающийся, бородатый, в замызганном камуфляже, со «Стечкиным» на боку и РПГ-7 на плече, он позировал на фоне подбитого азербайджанского Т-64. Письмо добиралось до меня долго, не по почте, с оказией – и когда я рассматривал этот снимок, то ещё не знал, что он подорвался на «лягухе»[10] и валяется в госпитале без обеих ног…
Меня передёрнуло.
«…не дай Бог, и здесь нарвётся…»
– А ты тётю Дашу попроси, может, уступит свою берданку? – предложил я. – Правда, на велике с ней будет неудобно – длинная, по спине колотится…
– Просил уже. – горестно вздохнул Рафик. – Не дала. Взамен предложила вот это.
И продемонстрировал длинный штык от чешской винтовки в паяных жестяных ножнах с кожаным кармашком-подвесом на ремень – он-то и напомнил мне песенку Боярского из старой советской комедии. Впрочем, какой ещё старой – «Сватовство гусара» выйдет на экраны только в восьмидесятом. Или его по телевизору покажут?..
«…ох уж мне эти временные парадоксы… надоело до чёртиков. А ведь, если подумать – ещё и суток не прошло…»
Подготовка велосипедов к вылазке не затянулась. Мне достался старенькая, но вполне ещё работоспособная «Украина», Рафик оседлал складную «Каму». С третьим велосипедом вышла заминка: подростковый «Орлёнок» даже с выкрученной до упора рулевой колонкой и штангой для седла был мал для любого из парней. В итоге, машина досталась Мати – пусть едет, решил я, здесь и без неё справятся. Тем более, что глядела она на меня такими влажными, обещающими всё глазами…
Я помотал головой, отгоняя грешные мысли. Нам предстоит отнюдь не романтическая прогулка с девушкой, а разведка, быть может, даже разведка боем. Хотя последнее вряд ли. После бегства экипажа телеги на дороге и на опушке леса, окружавшего здание клуба, не было замечено ни души, хотя наблюдение и велось на полном серьёзе: тётка выдала нам ключи от чердака и теперь там постоянно торчал дозорный со стареньким армейским биноклем, позаимствованным, как и Рафиков штык, с музейного стенда.
До Бобрищ, стоящих на месте будущей центральной усадьбы совхоза «Знаменский», мы добрались за четверть часа. Не доезжая сотни метров до поворота, за которым по моим расчётам должно было открыться деревня, я скомандовал сворачивать в лес. Соваться напролом в деревню не стоило – народ там дремучий, могут встретить непонятных чужаков в вилы. Лучше уж сделать крюк, а за перипетиями пейзанской жизни понаблюдать с опушки – тем более, что бинокль у меня тоже имелся, двойник того, что остался у караульщика на крыше ДК.
Деревня гудела растревоженным пчелиным ульем. С трёхсот метров, отделявших наш наблюдательный пункт от окраины, мы, кончено, не могли разобрать ни слова – но ясно видели и скопившуюся возле колодца толпу, и появление вооружённых всадников, и едва не случившуюся стычку. Минут через десять страсти поулеглись, мужики стали расходиться, а верховые, поторчав ещё немного на бобрищевском майдане, развернулись и ускакали. Насколько я помнил местную географию – в сторону господской усадьбы, которая как раз за ближайшей берёзовой рощей, верстах в трёх отсюда. А пейзане тем временем стали стягиваться к противоположной околице, и в руках у них мелькали вилы, дубины и топоры. А просёлок от этой самой околицы ведёт, между прочим, прямиком к нашему ДК…
– Что делать будем, Никита-джан? – прошипел мне на ухо Рафик. Мамой клянусь, они к нашим собираются, к ДК! Если поднажмём хорошенько – обгоним.
Я задумался. В клубе – карабин, двустволка и гранаты, есть люди, умеющие с ними обращаться, одна тётка с её партизанским прошлым чего стоит… К тому же у «альпиниста» оказалась с собой ракетница с двумя десятками картонных цилиндриков-ракет – собирался, понимаешь, устроить новогодний фейерверк…
– Поедем сначала в имение. От крестьян наши как-нибудь отобьются. Да им и отбиваться не придётся – два-три выстрела в воздух, и сами разбегутся. А у владельцев усадьбы можно попросить помощи. Ну и узнаем что-нибудь – в разведке мы, или где?
Ну, не знаю… – Рафик с сомнением покачал головой. – ты начальник, тебе виднее…
Насчёт помощи я не просто так сказал. Пятеро кавалеристов, которых мы только что видели, без труда разгонят жиденькую толпу пейзан, даже не пуская в ход оружие. Ну, может, нагайкой кого попотчуют, или саблей перетянут плашмя вдоль спины – так это не смертельно, дело житейское…
Я поднял из травы «Украину», выкатил на тропинку. Перед тем, как взгромоздиться в седло, передвинул вбок заткнутый за пояс наган – чтобы не врезался во всякие чувствительные места.
– Не копайтесь, у нас каждая минута на счету!
«…ага, а пока будешь ехать – не забудь придумать, как объяснить будущим «спасителям» кто мы такие. И, желательно, так, чтобы не перепугать их до полусмерти…»