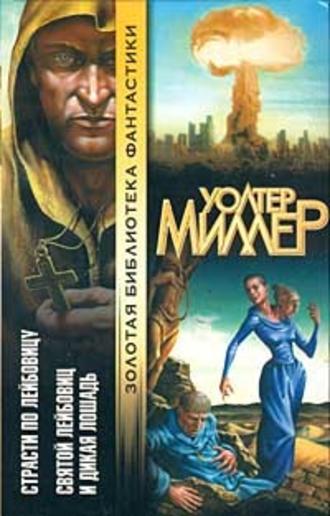
Терри Биссон
Святой Лейбовиц и Дикая Лошадь
Спускаясь вслед за Вушином по улице к реке, Чернозуб услышал топот конских копыт в кафедральном соборе святого Петра, а затем возбужденные голоса вокруг мертвого тела папы Амена II.
Глава 32
«И теперь могут они, даже не прибегая к Божьей помощи, с помощью своей руки преодолеть пороки плоти и свои гнусные мысли».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 1.
Два дня, не переставая, шел дождь. Низко над головой висела тяжелая пелена, не имевшая ничего общего с яркой высотой Пустого Неба прерий, она угнетала Чернозуба еще больше, чем сам дождь, который, по сути дела, был всего лишь надоедливой моросью. Он плелся за Вушином, а тот следовал за небольшим обозом фургонов и скота, направлявшимся к Народу Уотчитаха. Компания была сборная, но все же идти с ней было лучше, чем путешествовать в одиночку. Фермеры говорили на ломаном языке Кузнечиков, пересыпанном выражениями на ол'заркском с примесью староанглийского церковного. Чернозуб прикинул, что на появление этого диалекта повлияло близкое присутствие Нового Рима. Сначала ему было трудно понимать его, но помог талант к языкам, и он не без удивления определил источники лексики и выяснил, что диалект довольно беден в оттенках и тонкостях, хотя, возможно, это он сам плохо понимал его или же фермеры невнятно изъяснялись.
Среди них было несколько женщин. Явным лидером в обозе был фермер из «привидений» (как предположил Чернозуб) по имени Пфарфен. У него была дочь, красивая девушка, если не считать ее огромных, как у уродцев, ушей и рук, которые она все время загадочно скрывала под лохмотьями. Пфарфен держал ее в фургоне, где она весь день, занятая шитьем, пела, а по ночам, как, обеспокоившись, выяснил Чернозуб, сексуально обслуживала отца, когда фургон вместе с остальными останавливался на обочине грязной дороги.
Святой Город остался далеко позади – он продолжал гореть, и когда на северо-востоке низкие облака расползались, было видно, что горизонт затянут дымной пеленой. Армия, ушедшая на юг вместе с Хонганом Осле, была разгромлена и обратилась в беспорядочное бегство, и теперь редеющий поток беженцев на юг сталкивался с беженцами на север, которых становилось все больше – эта сумятица напоминала заторы на дорогах или стада, бредущие неведомо куда. Сходя с дороги, беженцы заполняли все еще зеленые луга, которые под ногами, колесами и копытами быстро превращались в болотистые трясины. Хотя все пользовались наречиями языка Кузнечиков, нетрудно было отличить воинственных Кочевников от полуцивилизованных фермеров Ханнегана: многие из беженцев, направлявшихся к северу, были ранены и большая их часть имела при себе оружие. Некоторые ехали верхом и с тревогой и гневом поглядывали на церковное облачение Чернозуба.
– Брось, Нимми, – говорил Топор каждый раз, когда Чернозуб изъявлял желание узнать о кампании Ксесача. Он спешил скорее добраться до Ханнеган-сити. Когда Чернозуб отказался стать при нем кейсаку и помочь ему вспороть себе живот, морщинистый старый воин пересмотрел цель своего существования. Чернозуб подозревал, в чем она сейчас заключалась, но спросить не осмеливался. Топор обладал странной способностью идти весь день без крошки пищи и при этом отнюдь не выглядел изнуренным. Чернозуба это не устраивало, ибо, как и все монахи, он испытывал склонность к обеденной трапезе; но поскольку он всегда помогал вытаскивать фургоны, когда те застревали в колее, его охотно приглашали к утреннему костру и к скудному обеду. Река, оставшаяся где-то на востоке, стала далеким воспоминанием. Теперь им то и дело встречались текущие в низинах потоки; каждый день приходилось пересекать не менее двух из них, и некоторые были так глубоки, что брод представлял немалые трудности. У каждой переправы громоздились груды брошенных и непохороненных тел – лежали они в странных позах, словно хотели выбраться из земли, а не скрыться в ней. Проходящие мимо беженцы делали вид, что не замечают их, и приказывали детям отворачиваться в другую сторону. Но дети всегда понимали войну лучше, чем взрослые. Смерть почти не интересовала их, она не вызывала у них ни ужаса, ни содрогания, которое испытывали взрослые, когда слышали шелест крыльев.
Небо над головой было черным от стервятников, описывавших широкие круги.
Подданные Баррегана.
Фермеры-привидения, с которыми путешествовали Топор и Чернозуб, терпимо относились к его тонзуре и облачению, тем более что он не надевал шапку, которую держал за пазухой. Тем не менее он не мог отделаться от чувства беспокойства. Насколько ему было известно, над ним еще висел смертный приговор, вынесенный Ханнеганом. Тот приговор, в результате которого он получил пилюли Хилберта, которых почти не осталось. Если, оставляя Новый Рим, он принимал их по три в день, то сейчас снизил дозу до одной, принимая ее по утрам вместе с кукурузной размазней. Их осталось всего две к тому дню, когда Чернозуб увидел трех братьев-монахов, распятых на обочине, но было невозможно определить, сделали это тексаркские солдаты или разгневанные Кочевники, которые, потерпев поражение, лишились обещанной им возможности разграбить Ханнеган-сити. Барреган был полон радости пиршества, и от тел почти ничего не осталось.
– Идем, – сказал Топор, и, сотворив торопливую молитву, Чернозуб кинулся догонять своих спутников. Он подумал было, что стоило бы похоронить покойников, но пока еще ему не хотелось самому пополнить их число. Кроме того, он не хотел остаться в одиночестве.
На следующий день он принял предпоследнюю пилюлю. В полдень они миновали еще двух священнослужителей, свисавших со столбов у глинистой обочины. Похоже, что их сначала распяли, а потом забросали камнями и утыкали стрелами, так что смерть смилостивилась над ними. На их лицах читалась едва ли не умиротворенность, словно они только что открыли дверь, ведущую к смерти. Чернозуб долго рассматривал их. Казалось, он их знал. Знал не в лицо, хотя, по правде говоря, все люди казались ему похожими друг на друга и все походили на его преосвященство кардинала Чернозуба Сент-Джорджа, дьякона собора святого Мейси – особенно в эти дни, когда он все чаще и чаще начинал задумываться, что подступают сумерки его земного бытия, пусть даже им еще долго предстоит длиться. Для него они походили на всех монахов, распятых на кресте жизни. Это был не их мир.
– Идем, – сказал Топор.
– Иди вперед, – ответил Чернозуб. – Я догоню.
«Накорми голодного, прикрой нагого, похорони мертвого». Он взял у Вушина короткий меч и с его помощью похоронил этих двоих на обочине дороги. Завершая работу, он навалил на могилу камни и воткнул в нее перекрещенные палки. Когда он закончил, уже стемнело. Не желая брести ночью в одиночестве, он уснул в пустой грязной промоине у дороги, подложив под голову, как подушку, измазанную кардинальскую шапку.
На следующее утро он принял последнюю пилюлю и, хотя небо прояснилось, преисполнился ужаса. Он торопливо шел почти весь день, надеясь нагнать фермеров-привидений и Топора. Те немногие беженцы, которых он встречал по пути, с любопытством смотрели на него, но оставляли в покое. Но он помнил облик распятых церковников, и его не покидало чувство страха. Он спрятал красную шапку под кустом, и в конце дня ему представилась возможность избавиться и от рясы – он стянул с трупа фермера, который лежал у дороги, брюки и куртку. Покойник был еще не старым. Взяв одежду, монах похоронил его. «Погребай мертвых, одевай нагих».
От кардинальской шапки он избавился без больших угрызений совести, но вот расстаться с груботканой коричневой рясой ордена Лейбовица оказалось куда сложнее. Поколебавшись, Чернозуб скатал ее в узел и прихватил с собой. Теперь он снова чувствовал себя пилигримом или простым книгоношей.
Когда он направился на юго-запад, над ним висело чистое небо, испятнанное лишь крошечными, точно точки, фигурками стервятников.
Лихорадка Хилберта не отпускала его и в дороге. Чернозуб не испытывал голода, и через несколько дней у него прекратилось расстройство желудка, но вместе с тем он стал терять силы. Путников встречалось все меньше и меньше, да и те говорили лишь на ол'заркском или вообще молчали. Поток беженцев превратился в ручеек. Некоторые пересекали Грейт-Ривер, надеясь, что водное пространство защитит их от посягательств и солдат Филлипео, и противостоящих им Кочевников, которых они продолжали воспринимать как воинство антипапы. Остальные просто исчезали в лесах, где им предстояло скрываться, умирать или ждать встреч с соседями или родственниками.
Чернозуб так и не нагнал свои фургоны. Он уже потерял Коричневого Пони, а теперь потерял и Топора. Когда дорога раздвоилась, он пошел на запад, чтобы утреннее солнце светило ему в спину, хотя он знал, что Вушин должен был направиться на юг, к Ханнеган-сити. Чернозуб испытывал голод по Пустому Небу. Лихорадка была одним из его спутников, а другим было сознание. Часто они обретали человеческий облик, и как-то раз, переходя небольшой ручей (по мере того как он все дальше уходил на запад, они становились все мельче и мельче), он увидел, что на другом берегу его ждет Спеклберд. Чернозуб заторопился к нему, но когда вскарабкался на берег, чернокожего старика с лицом кугуара там не оказалось. В другой раз он увидел Эдрию, стоящую в дверях заброшенной хижины. Иллюзия, если это было иллюзией, была так сильна, что, взбираясь к Эдрии по склону холма, он слышал ее пение. Но в хижине он нашел только мертвого старика, на руках у которого плакал ребенок.
Он дождался, пока ребенок умер, после чего похоронил их в одной могиле.
«Погребай мертвых».
Изо дня в день стояла сухая жара, и наконец хлынул ливень, о приближении которого возвестили молнии с громом. Дождь обрушился сплошной стеной, превратив дороги в скопище непролазной грязи. Лихорадка Хилберта тут же дала о себе знать, и теперь уже Чернозуб не мог без еды идти милю за милей. Эти долгие дни в жару напомнили ему томление постов, когда послушником он искал своего призвания и думал, что обретет его среди книжников обители святого Лейбовица. И разве он не нашел его? Он потерял аббатство и его братию, и теперь у него есть та свобода, к которой он так рвался. Он даже был самим папой освобожден от своих обетов. Но, может, он просто обрел новые цепи? «Иди и стань отшельником».
В тот день, когда Чернозуб увидел святого Лейбовица и Женщину Дикую Лошадь, он все утро брел по открытой прерии, перемежаемой редкими рощицами. Его беспокоило, что тут могли бродить разбойники, ибо он несколько раз встречал у дороги следы стоянок, где еще тлели остатки костров, но никто так и не попался ему на глаза. Он решил было накинуть рясу, но передумал. Даже те, кто не испытывал ненависти к Церкви за то, что она сделала с их миром, часто считали, что она весьма богата и посему даже бродячий монах может стать желанной поживой для грабителей с большой дороги.
К полудню он стал отчетливо чувствовать, что за ним кто-то идет. Каждый раз, пересекая возвышенные места, он оглядывался – дорога была пуста, и он видел только стервятников, которые кружили на юге и востоке. Чернозуб с радостью убедился, что миновал ту неопределенную границу, где лес уступает место траве, но чувство, что за ним следят, не покидало его. Оно было настолько остро, что когда он пересек очередной ручей, то спрятался за стволом рухнувшего сикомора и стал наблюдать.
И конечно же, между деревьями показался белый красноухий мул и стал спускаться к топкому берегу. Сначала Чернозубу показалось, что женщина в седле была Эдрией с близнецами на руках – теми, кого она с его помощью обрела под водопадом. Но эта была Фуджис Гоу, сама Дневная Дева. Значительно уступая Эдрии в красоте, она держала в каждой руке по ребенку, один из которых был белым, а другой черным; оба они лежали, приникнув к ее полным грудям. Даже когда мул, оскальзываясь, спустился к берегу и пересек ручей, они продолжали сосать ее. Затем она бросила уздечку. Мул остановился посреди медленного потока. Его темные глаза смотрели прямо на Чернозуба – нет, сквозь него.
Он встал, решив больше не прятаться. Переступая через поваленный ствол, он понял, что представшее перед ним зрелище принадлежит не к его миру и нет у него возможности прикоснуться к нему. Он, вне всяких сомнений, знал, что, если заговорит, она не услышит и если даже посмотрит в упор, то не увидит его. Ему казалось, что в одном из своих снов он поменялся с ними местами и теперь они, а не он, живут в реальности. А он стал сном.
Именно тогда из кустов вышел святой Лейбовиц и взял веревочную уздечку мула. Чернозуб узнал его по деревянной статуе, стоявшей в коридоре напротив кабинета аббата, которую в двадцать шестом веке вырезал брат Финго; он узнал его странную улыбку и взгляд, полный сомнений. Узнал он и легкий приятный запах лампадного масла, который повис в воздухе, когда святой прошел мимо. Сном был именно он, Чернозуб.
Проезжая мимо него, Фуджис Гоу смотрела в небо. Чернозуб не обратил внимания, насколько величествен может быть даже молодой дубок, тонкое переплетение ветвей которого вырисовывалось на фоне бледного неба. Один ребенок, альбинос, был слеп, другой был черен, как Спеклберд. Глазки у обоих были закрыты и маленькие кулачки сжаты, словно они, как и Дневная Дева, отвергали мир Чернозуба. Лейбовиц в своей грубой рясе, накинутой на плечи, выглядел таким же монахом, как, скажем, Топор. – Идем, – сказал он. После чего подмигнул и прошел мимо.
Чернозуб последовал за ним; он всегда шел туда, куда вел Лейбовиц. Но теперь он был слаб и, взбираясь на берег, дважды упал. Когда он поднялся на него, остальные двое (трое? пятеро?) уже далеко ушли по узкой тропе и их было почти не различить в сплетении теней. Он заторопился за ними, но его трепала лихорадка, и хотя шли они неторопливо, он отставал все больше и больше. Ему пришлось снова остановиться, и, должно быть, он уснул. Когда он пришел в себя, почти стемнело, а они были в непредставимой дали – как соринки в глазу, как мерцающие вдалеке точки. Но что-то было не так.
Солнце опускалось за правым плечом. Святой Лейбовиц и Женщина Дикая Лошадь шли не на запад, к океану трав, а на юг, к Ханнеган-сити. Хонгин Фуджис Вурн всегда выбирала своим повелителем того, кто одержал победу, а Ханнеган выиграл войну. Избирая себе мужа, она выбирала короля, и теперь она была с Филлипео. Лейбовиц вел ее к нему.
Чернозуб брел себе дальше, надеясь встретить тексаркских солдат, которые дадут ему пилюли. Приближалась зима – ей предстояло стать зимой 3246 года. Империя и ее границы были пересмотрены, и те несколько путников, которых встретил Чернозуб, были пугливы и настороженны. Бредя на запад, каждые несколько дней он хоронил трупы. Он больше не был ни кардиналом, ни даже монахом.
«Иди и стань отшельником».
Дожди прекратились. Молодых древесных побегов становилось все меньше, а дорога вела все выше и выше, где под куполом неба открывался мир сплошных трав. Лихорадка Чернозуба лишь слегка тлела; жар ее и изматывал его, и позволял держаться на ногах. В то утро, когда он оставил за спиной последние деревья, он увидел высоко над головой огромную птицу. Это был Красный Стервятник, птица папы. Впереди что-то (или кто-то) лежало у дороги. Два небольших черных грифа возились там, но плоть еще недостаточно протухла для их клювов. Нимми остановился посмотреть, как Барреган, птица папы (как он воспринял ее), спланировала вниз. Пораженные ее размерами, мелкие стервятники, понурив черноперые головы, отступили, но она не обратила на них внимания, и скоро они присоединились к ней в ожидании пиршества. Красный Стервятник был сильнее, и ему повезло больше, но и он не смог до конца справиться с еще свежим трупом.
С того места, где он сидел на травянистом холмике, Чернозуб не мог разобрать, был ли то труп человека. «Накорми голодного, пригрей больного, навести узника», – сказал он вслух, припомнив законы милосердия.
«Погреби мертвого».
Он швырнул камень. Прервавшись, птицы посмотрели на него с похоронной торжественностью, после чего, взъерошив перья и почистив клювы, возобновили пиршество. При нем все еще был короткий меч Вушина, но он не мог набраться решимости и вступить в ссору с королевой стервятников.
Затем он увидел, как спустился плешивый орел и прогнал всех, даже Баррегана, Стервятника Войны. Этот плешивый орел был национальной птицей Филлипео. Он поклевал труп, а затем потерял к нему интерес и улетел – теплый поток воздуха поднял его в небо цвета синего фарфора.
Чернозуб Сент-Джордж встал и побрел посмотреть, что ему осталось хоронить. Он надеялся, что это не очередной ребенок.
Глава 33
«И тем не менее пусть все делается сдержанно и неторопливо, ради тех, кто слаб сердцем».
Устав ордена св. Бенедикта, глава 48.
То был отличный год для стервятников. Они сопровождали Чернозуба всю дорогу обратно в аббатство святого Лейбовица, плавая в необъятности Пустого Неба, подобно точкам в глазу. Чернозуб отказался от мысли найти пилюли Хилберта, но болезнь постепенно оставила его; теперь она лишь чуть тлела. Если его и снедал жар, то это был тот самый жар, который терзал его всю жизнь, то горение, которое заметили и Амен, и Коричневый Пони, каждый имея в перспективе на него свои виды.
Безопасного пути через прерии больше не существовало. Тот, кто направлялся к северу от Нэди-Энн, не мог избежать встречи с империей, а на юге – столкновения с ордами. Обе группы то и дело проникали на территории друг друга, но хотя границы спорных земель по обе стороны от Нэди-Энн еще не были установлены, их можно было миновать, пусть и не без опаски. Королевство Ларедо к югу от Брейв-Ривер развалилось само собой.
Да и трава, казалось, пожухла, словно стараясь втиснуться в землю. То и дело попадались полосы песка и пыли, для пересечения которых требовалось не менее половины дня. Пустое Небо казалось еще более пустым, чем обычно. Чернозуб снова облачился в рясу и по пути бормотал молитвы, перебирая четки. Но ел ли он? И где он находил воду? Те немногие люди, которых он видел, ехали верхом и скрывались за горизонтом.
Как-то днем пошел дождь. Но это был легкий дождичек, влага которого тут же испарялась, вроде того, который порой выпадает в прериях и почти не доходит до земли, лишь чуть увлажняя ее, да и эта вода тут же испаряется, стоит только, подобно медленной молнии, блеснуть первым лучам солнца, после того как облака, словно оседлав своих неторопливых пони, уползают с небосвода.
Пустое Небо.
Здесь не было ни дорог, ни троп. Чернозуб шел за уходящим солнцем. Сухие русла рек пересекали следы колес фургонов, разбегаясь в самых разных направлениях. Несколько человек, которых встретил Чернозуб, были миролюбивы и поделились едой; трупы, которые попадались ему по пути, он хоронил, пуская в ход короткий меч, позаимствованный у Топора.
Большую часть времени он двигался в полном одиночестве, сопровождаемый только своей тенью, которая бежала перед ним по утрам и тащилась сзади, когда спускался вечер. Только к полудню, в самую жару, она покидала его. И земля и небо были тут в своей первозданной сущности, и мир казался более сложным и непростым, чем обычно.
Чернозубу не хватало маленького уродца-кугуара с синими ушами. Он думал, какая судьба постигла Аберлотта, которому так нравились маленькие медные патроны войны. Стал ли он одним из безродных? Или нашел свой последний приют в земле прерий?
Эти мысли приходили одна за другой, в соответствии с ритмом шагов… приходили и уходили, молча, как птицы. А случалось, что Чернозуб шел с совершенно пустой головой – это был дар, которым его наделяло Пустое Небо, и каждый его шаг сам по себе был молитвой.
Да, то был отличный год для стервятников. Чернозуб видел это по тому, как легко они, спугнутые, снимались с места. Их всегда ждало другое пиршество, сразу же за соседним холмом.
Преподобный Абик Олшуэн умер после очередного удара, и после отбытия времени траура, предписанного бенедиктинским уставом, новым аббатом был избран приор Девенди. Придя в монастырь, Чернозуб не испытывал большого желания оставаться в нем, хотя с этими старыми глинобитными стенами у него было связано немало хороших воспоминаний (впрочем, не меньше было и плохих). История об Эдрии, появившейся как сестра Клер, стала едва ли не легендой, и Чернозуб слышал несколько версий ее. По словам некоторых братьев, они были связаны с появлением образа Святой Девы в восточной половине неба.
– Это была Ночная Ведьма, – сказал Чернозуб. – Она означает войну и смерть, а не мир и надежду, – по тому, как брат Крапивник и другие осенили себя крестными знамениями, он понял, что братия не хочет слышать таких слов, хотя по-своему они подготовились к войне. Они спрятали религиозные святыни в самой далекой келье и стерли пыль с пушки, которая осталась после Зайца-контрабандиста. Брат-плотник сидел в подвале, выстругивая тяжелые плахи для укрепления дверей. Поражение планов нового порядка, которые строил Коричневый Пони, свидетельствовало о наступлении новых темных времен. Почему-то они не пугали Чер-нозуба, он о них даже не думал. Кровь и слезы были тем океаном, в котором извечно плавало человечество.
Обитель взяла к себе четырех ребятишек из деревни. Двое уже умерли. Похоже, из пустыни пришли новые болезни.
Придя на могилу Джарада, Чернозуб остановился, глядя в пустую яму, которая всегда ждала очередного обитателя. Как объяснил приор Девенди, в соломенных матах, которыми были обложены ее края, вряд ли имелась необходимость, ибо в этом году дождей было меньше, чем обычно. Могила была так глубока, что Чернозубу показалось, будто дно ее уходит в непроглядную глубину, где… где…
Покачнувшись, он чуть не упал.
Болезнь Джерарда – так называли монахи этот недуг по имени возлюбленного собрата, который почти тысячу лет назад был сражен им.
– Похоже, ты немного не в себе, – сказал приор Девенди. – Идем.
Через людные днем помещения монастыря, под старыми знакомыми сводами он провел Чернозуба в кабинет Олшуэна. Пустив в ход ключик, который на шнурке свисал у него с шеи, он открыл ящик стола, извлек из него другой ключ и уже им открыл шкаф с пыльными бутылками. Приор налил стакан бренди. Чернозуб чуть не отмахнулся от него, но увидел, что Девенди наливает и второй стакан для себя.
– Орегонский, – сказал он. – Остался тут как подарок Коричневому Пони, когда он стал папой Аменом II. Но он перевел папство в Новый Иерусалим, и эта бутылка так и не была открыта.
– А теперь он мертв, – сказал Чернозуб. Он никому не рассказывал о подробностях сцены в базилике святого Петра – только то, что папа мертв.
– Он сделал тебя кардиналом, – напомнил Девенди. – Где твой головной убор?
– Моя шапка… Я все оставил в прошлом. Подозреваю, что кто бы ни был новым папой, он в любом случае разжалует всех кардиналов Коричневого Пони.
– Тут тебе нет необходимости быть кардиналом, – осторожно улыбнулся Девенди. – Можешь быть только священником.
– Только – кем? – Чернозуб удивленно посмотрел на старого священника.
– Братия хочет избрать тебя аббатом. Для этого ты должен получить рукоположение.
– Это невозможно, – сказал Чернозуб. – Non accepto.
– Я тоже так думаю, – сказал Девенди. Он не скрывал облегчения. – Но я обещал, что спрошу у тебя.
– У меня нет к этому призвания, – сказал Чернозуб. – Я был призван к служению папой Аменом II. Я останусь тут на пару ночей, а потом…
– На гору Последнего Пристанища?
– Думаю, что должен пройти этим путем.
– Туда она и ушла, – сказал приор Девенди. – Ты знаешь, у нее были… м-м-м… раны, и, покинув аббатство, она осталась у старого еврея. Но я уверен, что ее там не должно быть.
Чернозуб посмотрел в окно, за которым виднелась Столовая гора. Ее очертания расплывались в струях горячего воздуха, и она казалась миражом.
– А старый еврей по-прежнему там?
Да, старый еврей по-прежнему был на месте. Следующим утром Чернозуб оставил аббатство, неся с собой дары в виде одеяла, требника, фляжки и буханки хлеба. На полпути вверх по тропе, которая вела к вершине Столовой горы, его встретил шум осыпающихся камней. Он не обратил на них внимания; это была всего лишь галька. Он переступил последнюю трещину, преграждавшую путь, и перед ним предстал Бенджамин Элеазар бар Иешуа. Он выглядел не старше, чем десять лет назад – или сто лет, насколько было известно Чернозубу.
– Это ты, – сказал старик. – Я подозревал, что это можешь быть только ты.
– Коричневый Пони мертв, – сказал Чернозуб.
– Не только он один, – это было все, что ответил старый Бенджамин. Он рассказал Чернозубу, что Эдрия оставалась у него несколько месяцев, пока не зажили ее язвы, а потом она ушла, так ничего и не рассказав о своих планах.
– Сильно ли она изменилась?
– Изменилась? – старый еврей только усмехнулся и покачал головой, делая вид, что не понял его. – Она никогда не была и никогда не будет лучше. Она может быть богаче или беднее, она может впасть в грусть, но до конца дней своих не будет мудрее, чем она есть сейчас.
Устав и испытывая раздражение от груды пророчеств и парадоксов, обрушившихся на него, Чернозуб завернулся в одеяло и сразу же уснул. Он провел у Бенджамина две ночи и спал в той палатке, где обитала Эдрия. Старый мастер, когда-то шивший их, никогда не оставался в палатке, если была возможность избежать этого. Каждую ночь Чернозуб просыпался от шума дождя – капли гулко шлепались о натянутую парусину. Может, старик во сне пускал в ход свое искусство заклинателя дождей? Каждую ночь на востоке полыхали сухие молнии; это Женщина Дикая Лошадь увещевала своих детей на равнинах.
На третий день он ушел. Старый еврей наполнил его фляжку водой из водоема под скалой. Вода была холодной и чистой, и Чернозуб удивился, убедившись, что ее хватило на весь путь до Нового Иерусалима.
– Если бы даже она появилась, – сказал приор Поющая Корова, когда Чернозуб оказался в приорстве святого Лейбовица, – мне пришлось бы выставить ее. Ты же слышал, что с ней случилось.
– Да.
По папской дороге Чернозуб двинулся на север и, очутившись к Мятных горах, свернул к Пустой Аркаде. Население Нового Иерусалима заметно уменьшилось. Магистр Дион не вернулся с «войны антипапы» (как ее называли даже «привидения»), и никто не знал о судьбе Эдрии, дочери Шарда, кроме того, что она после отлучения от церкви направилась в Ларедо. Никто не верил Чернозубу, когда он рассказывал, что отлучение было отменено папой, который и не был папой в Новом Риме, а тот больше не был Новым Римом.
Не удалось ее найти и в Валане.
Но довелось встретить Аберлотта, который трудился обыкновенным писцом на площади святого Джона – он сидел у стен Большого зала собора Святого Престола, неподалеку от дверей старого панского дворца, в котором Амен Спеклберд произнес свою ныне легендарную семнадцатичасовую речь. Воздух Валаны был полон знакомых городских запахов конского навоза, еды и дыма. Улицы кишели людьми; после поражения крестового похода многие Кочевники предпочли осесть на узкой полоске земли, орошаемой текущей с гор водой. Они покупали и продавали коров и лошадей, сменив свой образ жизни, чтобы он соответствовал изменившемуся облику мира.
– Я устал быть солдатом, – сказал Аберлотт. – Не устали ли вы быть кардиналом, ваше преосвященство?
– Я больше не кардинал, – сказал Чернозуб – ирония его старого товарища была, как всегда, утомительна. Под глазом у Аберлотта тянулся длинный шрам, который, по его словам, он заработал у ворот Ханнеган-сити, когда тексаркские войска обошли их с фланга и воины Хонгана Осле попали в засаду. Шрам хорошо сочетался с его отрубленным ухом.
– Я чуть не истек кровью, – сказал Аберлотт. – Для меня все закончилось в Ханнеган-сити. Когда сражение завершилось, империя просто сгребла нас, как изюм для булочек. Многие из Кочевников Ксесача дри Вордара сейчас влились в императорскую гвардию.
Я скитался несколько недель, а затем устроился секретарем при церковнике из Н'Орка, который прибыл на конклав, но не говорил на ол'заркском.
– На конклав?
– Ну да, – сказал Аберлотт. – Созвал его Сорели Науйотт и сам стал папой. Или, может, имеет смысл сказать, что папой его сделал Филлипео Харг. Урион Бенефез был просто вне себя – думаю, он и сейчас пребывает в таком же состоянии. Без Коричневого Пони, который мог и сопротивляться, и стоять на своем, и уклоняться, все эти епископы и архиепископы покорно прибыли в город. Сорели аннулировал все распоряжения Амена Второго, которыми тот что-то аннулировал, а затем Вушин аннулировал Филлипео.
– Топор.
– Он самый, – согласился Аберлотт. – Остановил его карету прямо на улице. А когда Филлипео высунулся из оконца посмотреть, что происходит, снес ему голову. Охрана Ханнегана изрешетила пулями твоего желтого друга, но он с готовностью принял их, подставив выстрелам грудь, горло и живот. Я сам это видел.
Когда Чернозуб опустил веки, он увидел перед собой строгий взгляд узких глаз Вушина.
– Если бы не он, я давно был бы мертв.
– Разве это не относится к нам обоим? В любом случае ты больше не кардинал. Папство переместилось в Ханнеган-сити, которым в роли регента при сыновьях Филлипео управляет Бенефез. И когда дети подрастут, он, как полагается, затеет между ними кровавую смуту. Но пока, как ни крути, установился мир.
Аберлотт женился на Анале, сестре Джасиса, и перетащил ее вместе с двумя маленькими детьми из Нового Иерусалима в Валану. Он предложил Чернозубу остаться у него, но дом был невелик, да и Чернозуб осознал, что не испытывает тяги к атмосфере семейного уюта.
– Я слишком долго был монахом, – объяснил он Аберлотту и, попрощавшись с ним, направился на юг.
То был очень хороший год для стервятников. Их молодое поколение росло сильным и крепким, черные крылья уносили их высоко и далеко, и плодородная земля щедро кормила их падалью. Как-то ночью Чернозуб проснулся в холодном поту и подумал, что возвращается лихорадка. Посмотрев на север, он увидел, что небо закрыто Ночной Ведьмой, огромной и уродливой. Он видел, как сквозь ее воздетые руки просвечивают звезды.
– Кто умирает? – громко спросил он. Лишь потом он узнал, что это был его старый друг Чиир Хонган Осле.
План Коричневого Пони обернулся для Кочевников бедствием. После поражения три орды отвернулись друг от друга.
Договор Священной Кобылы больше не сдерживал их, и равнины покрылись телами тех, кто погиб от засухи, болезней и от рук безродных.
Чернозуб пересек Нэди-Энн и вдоль Залива привидений шел дальше на юг, пока наконец не оказался у Брейв-Ривер. Поскольку он не был больше кардиналом, то ожидал, что мать Иридия откажет ему в приюте в монастыре святого Панчо Вильи в Тараканьих горах, но она приняла его едва ли не как старого друга. Хотя известий о сестре Клер Ассизской у нее не было. Она предполагала, что Эдрия где-то у своих соотечественников.




