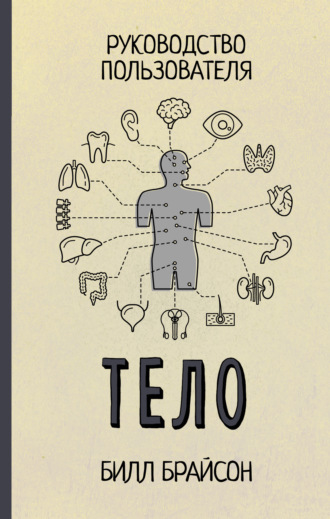
Билл Брайсон
Тело. Руководство пользователя
Чтобы полностью сформироваться, мозгу требуется немало времени. Проводка в мозге подростка смонтирована лишь на восемьдесят процентов (пожалуй, родители подростков несильно удивятся этому факту)[159]. Хотя мозг больше всего растет в первые два года и в десять лет уже на девяносто пять процентов завершен, синапсы окончательно оформляются лишь к двадцати пяти – тридцати годам. А значит, по факту подростковый возраст захватывает значительную часть взрослой жизни. В этот период человек почти наверняка будет более импульсивен и менее вдумчив, чем старшие, а также более восприимчив к воздействию алкоголя. «Подростковый мозг – это не просто взрослый мозг с меньшим пробегом», как выразилась в 2008 году профессор неврологии Франсес Э. Дженсен в статье для Harvard Magazine. Нет, это вовсе иной тип мозга.
Прилежащее ядро – область переднего мозга, отвечающая за удовольствие, – вырастает до максимального размера именно в подростковом возрасте. И в тот же самый период организм вырабатывает больше дофамина (нейромедиатора, который вызывает чувство удовольствия), чем когда-либо еще. Вот почему в подростковом возрасте все ощущения более мощны, чем в любую другую пору жизни. Но по той же самой причине погоня за удовольствием становится для подростков «профессиональным» риском. Основной причиной смерти в подростковом возрасте являются несчастные случаи, а основной причиной несчастных случаев – просто-напросто общение с другими подростками. Например, когда их в машине больше одного, вероятность аварии увеличивается сразу на четыреста процентов[160].
Нейроны знакомы всем, но немногие слышали о других важнейших клетках мозга – глиоцитах, или глиальных клетках, что несколько странно, ведь их количество в десять раз превышает количество нейронов. Глия (в переводе с греческого «клей» или «шпаклевка») – это совокупность клеток, которые служат опорой нейронам мозга и центральной нервной системы. Их долгое время считали не слишком важными – предполагалось, что они в основном играют роль этакой физической подпорки или, выражаясь анатомическими терминами, внеклеточного матрикса для нейронов, – но сегодня мы знаем, что они участвуют во множестве важных химических процессов, от выработки миелина до выведения отходов.
По поводу того, способен ли мозг создавать новые нейроны, единого мнения нет. Группа ученых из Колумбийского университета во главе с Маурой Болдрини в начале 2018 года заявила, что гиппокампы мозга совершенно определенно производят по крайней мере немного новых нейронов, но ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к ровно противоположному выводу. Трудность в том, что нет четкого способа определить, новый ли нейрон или нет. Точно известно одно: даже если мы в самом деле можем создавать новые нейроны, их ни в коем случае не хватит, чтобы заменить потерянные даже просто в процессе старения, не говоря уже об инсульте или болезни Альцгеймера[161]. В общем – будь то буквально или практически, – если вы вышли из поры раннего детства, то больше мозговых клеток, чем сейчас, у вас уже никогда не будет.
Но есть и хорошие новости: мозг способен компенсировать весьма серьезную нехватку массы. Джеймс Ле Фаню в своей книге «Почему мы?» (Why Us?) рассказывает о случае, когда врачи просканировали мозг мужчины среднего возраста с нормальным интеллектом и в изумлении обнаружили, что две трети его черепа занимает огромная доброкачественная киста, которую он, очевидно, носил в себе с младенчества. У него отсутствовала значительная часть теменных и височных долей, а лобных не было совершенно. Оставшаяся треть мозга просто взяла на себя обязанности и функции недостающих двух третей и выполняла их настолько хорошо, что ни он, ни кто-либо еще даже не подозревал, что производительность его мозга весьма и весьма снижена[162].
При всех этих чудесах мозг удивительно молчалив. Сердце стучит, легкие надуваются и сдуваются, кишечник тихонько урчит и булькает, а он просто сидит, притворяясь бланманже, и ничем не выдает своего присутствия. Его поверхностная структура никак не намекает на то, что это инструмент высшей мыслительной деятельности. Как сказал однажды профессор Джон Р. Сёрл из Беркли: «Если бы вы изобретали органический механизм для перекачивания крови, у вас, пожалуй, получилось бы что-то вроде сердца, но если бы конструировали сознание, разве хоть кому-нибудь пришло в голову собрать его из ста миллиардов нейронов?»[163]
В общем, едва ли стоит удивляться, что понимание того, как функционирует мозг, приходило к нам медленно и по большей части нечаянно. Один из самых судьбоносных (и, надо заметить, подробно описанных) моментов в истории зарождающейся науки нейробиологии произошел в 1848 году в Вермонте, когда молодой железнодорожный рабочий по имени Финеас Гейдж закладывал в скалу динамит и тот преждевременно взорвался. Отброшенный взрывом двухфутовый лом продырявил Гейджу левую щеку, вышел через макушку, пролетел еще полсотни футов и только тогда грохнулся на землю. Металлический стержень проделал в его мозге аккуратное отверстие диаметром около дюйма. Это кажется чудом, но Гейдж выжил и вроде бы даже не лишился сознания, хотя левый глаз он все же потерял и характер его необратимо испортился. До несчастного случая он был весельчаком и всеобщим любимцем, но после стал угрюм, склочен и обидчив. Цитируя печальное замечание одного из его давних друзей, он просто «больше не был Гейджем». Как и многие люди с повреждениями лобных долей, Гейдж не осознавал своих проблем и не понимал, что изменился. Не сумев прижиться на родине, он переехал из Новой Англии в Южную Америку, а потом в Сан-Франциско, где погиб в возрасте тридцати шести лет, став жертвой эпилептического припадка.
История бедняги Гейджа была первым доказательством того, что физическое повреждение мозга способно изменить личность, но в последующие десятилетия другие ученые стали отмечать, что при разрушении или поражении участков лобных долей опухолями больные иногда становятся удивительно безмятежными и спокойными. В 1880-х годах в ходе серии операций швейцарский врач по имени Готлиб Буркхардт хирургическим путем удалил у психически больной женщины восемнадцать граммов мозга, превратив ее (по его собственным словам) из «опасной и буйной сумасшедшей в тихую сумасшедшую»[164]. Буркхардт опробовал эту технику еще на пяти пациентах, но трое умерли, а у двоих началась эпилепсия, так что он сдался. Пятьдесят лет спустя в Португалии профессор неврологии Лиссабонского университета Эгаш Мониш решил попробовать еще раз и начал резать шизофреникам лобные доли в качестве эксперимента, чтобы поглядеть, не утихнет ли от этого их помешательство. Вот так появилась фронтальная лоботомия (хотя в те времена ее частенько называли лейкотомией – особенно в Британии).
Мониш представляет собой почти идеальную иллюстрацию того, как не надо заниматься наукой. Он делал операции, не имея ни малейшего представления, какой ущерб они могут нанести или каковы будут результаты. Не проводил предварительных опытов на животных. Не особенно утруждался при выборе пациентов и не интересовался последствиями операций. Вообще-то он даже не проводил эти операции сам, а только командовал учениками и потом с готовностью принимал похвалы за любые успехи. Его метод и в самом деле до определенной степени работал. После лоботомии люди обычно становились менее агрессивными и более послушными, но также очень часто страдали от необратимой потери личности. Несмотря на многочисленные недостатки этого метода и прискорбный уровень медицинского профессионализма Мониша, он прогремел на весь мир и в 1949 году достиг пика славы, получив Нобелевскую премию[165].
Американский врач Уолтер Джексон Фримен прослышал о методе Мониша и стал его самым ярым последователем. Почти сорок лет Фримен путешествовал по стране, проводя лоботомии буквально на всех, кого к нему приводили. В одной из поездок он за двенадцать дней прооперировал двести двадцать пять человек. Самым юным из его пациентов было всего четыре года. Он оперировал людей с фобиями, пьяных, подобранных на улице, людей, осужденных за гомосексуальные акты, – короче говоря, любого, у кого медицина или общество находили то, что считали отклонением. Фримен действовал столь быстро и грубо, что присутствовавшие врачи содрогались от ужаса. Он через глазницу вводил в мозг обыкновенный кухонный нож для колки льда, постукивая по нему молотком, чтобы вогнать в череп, а потом энергично вертел, разрезая нейронные связи. Вот как небрежно он сам описывал процедуру в письме к сыну:
Я отключаю их… электрическим шоком; потом, пока они под «анестезией», втыкаю нож между глазным яблоком и веком через вершину орбиты прямо в лобную долю мозга и делаю боковой надрез, водя ножом из стороны в сторону. Двух пациентов я прооперировал с обеих сторон, а еще одного – с одной стороны без всяких осложнений, если не считать одного очень темного синяка. Возможно, проблемы возникнут позже, но сама процедура оказалась довольно простой, хотя, бесспорно, зрелище это не из приятных[166].
Да уж. Метод был настолько варварский, что опытный невролог из Нью-Йоркского университета, наблюдая за операцией Фримена, лишился чувств. Зато все происходило быстро: чаще всего уже через час пациенты могли отправляться домой. Как раз эти быстрота и простота и восхитили многих членов медицинского сообщества. Фримен подходил к делу с чрезвычайной легкостью. Он оперировал без перчаток и хирургической маски, обычно в уличной одежде. Его метод не оставлял шрамов, но также означал, что ему приходилось действовать вслепую без всякого понятия о том, какие психические функции он уничтожает. Поскольку кухонные ножи не предназначены для операций на головном мозге, иногда они обламывались, застревая в черепе, и их приходилось удалять хирургическим путем – если они не успевали раньше убить пациента. В конце концов Фримен изобрел для этой процедуры специальный инструмент, хотя по сути это был лишь более прочный ножик для колки льда.
Пожалуй, самое поразительное во всем этом то, что Фримен был психиатром без лицензии хирурга, что приводило многих других врачей в ужас[167]. Примерно две трети пациентов Фримена не получили от операции никакой пользы, а некоторым стало хуже. Два человека умерли. Самой известной его неудачей стала Розмари Кеннеди, сестра будущего президента. В 1941 году ей исполнилось двадцать три, она была очаровательной, полной жизни девушкой, но упрямой и склонной к перепадам настроения. Еще она испытывала некоторые трудности с обучением, хотя, судя по всему, они были вовсе не такими серьезными и деструктивными, как порой описывают. Отец девушки, утомленный ее своеволием, устроил ей лоботомию у Фримена, не посоветовавшись с женой. Лоботомия практически уничтожила ее. Следующие шестьдесят четыре года Розмари провела в пансионате на Среднем Западе: она не могла говорить, страдала недержанием и полностью потеряла личность. Любящая мать не навещала ее двадцать лет.
Постепенно, когда все увидели, что Фримен и подобные ему оставляют за собою след из обломков людей, лоботомия вышла из моды – особенно с появлением эффективных психотропных препаратов. Фримен продолжал оперировать даже после семидесятилетнего возраста и наконец отправился на покой лишь в 1967 году. Но беды, причиной которых стали он и его последователи, продолжались еще долгие годы. Тут у меня есть кое-какой опыт. В начале 1970-х я два года работал в психиатрической больнице под Лондоном, где одну из палат почти целиком занимали жертвы лоботомий 1940-х и 1950-х годов. Все они за малым исключением были послушными, безжизненными пустыми оболочками[168].
Мозг – один из самых уязвимых наших органов. Как это ни парадоксально, само то, что он заключен в плотную защитную оболочку черепа, увеличивает вероятность повреждений, когда он распухает от инфекции или когда в нем оказывается жидкость (например, при кровотечении), потому что дополнительный объем туда не помещается[169]. В результате мозг сдавливается, что может привести к гибели. Также мозг легко повреждается, ударившись о череп от внезапного толчка, например при аварии или падении. Тонкий слой спинномозговой жидкости в мозговых оболочках – внешнем защитном слое мозга – немного пружинит, но лишь немного. Эти травмы, известные как повреждения от «противоудара», появляются на противоположной от места удара стороне мозга, так как мозг бьется о свою собственную предохраняющую (хотя в данном случае – не особенно) оболочку[170]. Такие травмы особенно часто встречаются в контактных видах спорта. Тяжелая или повторная травма может привести к развитию дегенеративного заболевания мозга, известного как хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ). По одной из оценок, какой-то степенью ХТЭ страдают от двадцати до сорока пяти процентов вышедших на пенсию игроков Американской национальной футбольной лиги, но ученые предполагают, что этот недуг встречается также среди бывших игроков в регби и австралийский футбол и даже среди футболистов, которые часто били по мячу головой.
Кроме контактных травм, мозгу угрожают и собственные внутренние бури. Инсульты и судороги – это типично человеческие немощи. Большинству млекопитающих инсульты незнакомы, а если и случаются, то исключительно редко. Однако для людей, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, это вторая самая распространенная в мире причина смерти. Причина покрыта мраком неизвестности. Как замечает Дэниел Либерман в своей книге «История человеческого тела», у мозга отличное кровоснабжение, призванное минимизировать риск инсульта, и все же инсульты случаются.
Аналогичным образом остается вечной загадкой и эпилепсия, однако она еще обременена тем, что больных ею притесняли и демонизировали на протяжении всей истории человечества. Даже в двадцатом веке общественность еще какое-то время считала, что судороги заразны – что уже одно зрелище припадка может спровоцировать припадок у другого человека. Эпилептиков часто объявляли психически неполноценными и запирали в лечебных учреждениях. Еще совсем недавно, в 1956 году, в семнадцати штатах США эпилептикам запрещалось вступать в брак; в восемнадцати штатах их могли подвергнуть принудительной стерилизации. Последний из этих законов был отменен лишь в 1980 году. В Британии эпилепсия аж до 1970 года оставалась законной причиной для признания брака недействительным[171]. Как выразился несколько лет назад Раджендра Кале в своей статье в «Британском медицинском журнале»,
историю эпилепсии можно вкратце охарактеризовать как четыре тысячи лет невежества, суеверий и предрассудков, за которыми последовали сто лет знаний, суеверий и предрассудков[172].
Вообще-то эпилепсия – это не конкретное заболевание, а совокупность симптомов, которые могут варьироваться от кратковременной потери сознания до длительных судорог. Все они вызываются нарушением работы нейронов в мозге. Эпилепсию может вызвать болезнь или травма головы, но очень часто у нее нет явной причины – внезапный и пугающий приступ просто обрушивается из ниоткуда. С помощью современных препаратов удалось значительно облегчить или вовсе исключить приступы у миллионов пациентов, но примерно у двадцати процентов эпилептиков реакции на лекарства не наблюдается. Каждый год примерно один эпилептик из тысячи погибает во время или сразу после приступа – наступает так называемая внезапная смерть при эпилепсии (англ. Sudden Unexpected Death in Epilepsy, или SUDEP). Как пишет Колин Грант в своей книге «Запах гари» (A Smell of Burning: The Story of Epilepsy), «никто не знает, что ее вызывает. Сердце просто останавливается». (Еще один из тысячи эпилептиков каждый год трагически погибает из-за потери сознания при неудачных обстоятельствах – скажем, в ванне или от сильного удара головой.)
Мозг – не только чудесное место, но и жуткое. Это неизбежный факт. Кажется, что число любопытных и странных синдромов и состояний, связанных с нервными расстройствами, почти безгранично. Например, синдром Антона – Бабинского, при котором слепые люди отказываются верить в свою слепоту. Больные синдромом Риддоха видят лишь объекты, которые находятся в движении. При синдроме Капгра больные убеждены, что отлично знакомые им люди на самом деле самозванцы. У жертвы синдрома Клювера – Бюси появляется ненасытное стремление есть и совокупляться (ко вполне понятному ужасу близких). Пожалуй, самым причудливым из всех можно назвать синдром Котара, жертвы которого считают, что они умерли, и их невозможно в этом разубедить[173].
В мозге одни сплошные сложности. Даже бессознательное состояние – очень многогранная штука. Помимо сна, анестезии и контузии, существует еще кома (глаза больного закрыты, и он совсем не осознает, что происходит вокруг), вегетативное состояние (глаза открыты, но сознания нет) или апаллический синдром (ясность мысли изредка возвращается, но чаще всего сознание спутанное или его нет вовсе). Синдром запертого человека – вообще отдельный разговор. При нем пациент находится полностью в сознании, но парализован и часто может общаться только моргая[174].
Никто не знает, сколько людей находится в состоянии минимального сознания или в чем-то еще похуже, однако в 2014 году журнал Nature Neuroscience опубликовал предположение: вполне возможно, что это число достигает сотен тысяч. В 1997 году Адриан Оуэн, бывший тогда молодым нейробиологом в Кембридже, обнаружил, что некоторые больные, которые, как считалось, находились в вегетативном состоянии, на самом деле ясно сознавали все происходящее, но не могли никому об этом поведать[175].
В своей книге «В серую зону» (Into the Grey Zone) Оуэн рассказывает о пациентке по имени Эми, которая получила при падении серьезную травму головы и долгие годы пролежала на больничной койке. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, тщательно следя за реакцией нейронов женщины на вопросы исследователей, удалось определить, что она находится в полном сознании:
Она понимала каждый разговор, узнавала каждого посетителя и внимательно слушала каждое решение, принимаемое от ее имени. Но не могла пошевелить ни единым мускулом – ни открыть глаза, ни почесаться, ни донести до людей хоть самое простое желание.
Оуэн полагает, что примерно пятнадцать-двадцать процентов людей, которые, как считается, находятся в вегетативном состоянии, на самом деле всё ясно сознают. Даже сегодня единственный верный признак того, что мозг функционирует, – это когда его владелец сам вам об этом сообщил.
Пожалуй, самый неожиданный факт, связанный с мозгом, – это то, что он уменьшился по сравнению с мозгами людей, живших десять или двенадцать тысяч лет назад, и довольно значительно. Если точнее, объем среднестатистического мозга с тогдашнего показателя в 1500 кубических сантиметров снизился до 1350. Словно из него вычерпнули кусок размером с теннисный мяч. Эту перемену не так легко объяснить, потому что она произошла во всем мире одновременно, словно мы все единогласно решили ужать себе мозги. По самой распространенной теории, наш мозг просто стал более производительным, продуктивность на единицу объема повысилась – прямо как у мобильных телефонов, которые по мере уменьшения становились все более многофункциональными. С другой стороны, может, мы просто отупели – этому тоже нет прямых опровержений.
Примерно в тот же самый период стали тоньше и наши черепа, что тоже, по сути, никто не может объяснить. Возможно, мы просто перешли на менее опасный и активный образ жизни, и теперь нам уже не надо наращивать такой прочный череп, как раньше[176]. Но опять же, быть может, мы просто уже не те, что были когда-то.
А теперь, с этой отрезвляющей мыслью, перейдем к остальной части головы.
Глава 5
Голова
То была не просто идея, а вспышка вдохновения. При виде этого черепа перед моим взглядом вдруг засияла, словно огромная равнина, освещенная пылающим небом, проблема природы преступника.
Чезаре Ломброзо

Мы все знаем, что без головы жить нельзя, но в конце восемнадцатого века разыгрался нешуточный интерес к вопросу о том, сколько все-таки можно. Нельзя было выбрать более подходящее время, ибо Великая французская революция предоставила пытливым умам исследователей неиссякаемый запас свежеотрубленных голов.
В голове, расставшейся с плечами, еще остается насыщенная кислородом кровь, так что потеря сознания может быть не мгновенной. Оценки того, как долго мозг продолжит функционировать, колеблются от двух секунд до семи – и это при условии, что голову отрубили с первого раза, что случалось далеко не всегда. Головы не так-то легко отделяются от тел – даже мощным ударом специально заточенного топора в руках профессионала. Как замечает Франсес Ларсон в своей увлекательной истории казни через обезглавливание «Отсеченные» (Severed), чтобы в корзине оказалась голова шотландской королевы Марии Стюарт, палачу понадобилось три раза от всей души махнуть топором – а ведь у той была сравнительно изящная шея[177].
Многие свидетели казней утверждали, что у только что отрубленных голов наблюдались признаки сознания. Говорят, что на лице Шарлотты Корде, казненной в 1793 году за убийство лидера якобинцев Жан-Поля Марата, отразились ярость и презрение, когда палач поднял ее голову над ликующей толпой. Ларсон упоминает и другие сообщения: о том, что казненные моргали или двигали губами, словно силясь что-то произнести. Человек по имени Терье, по слухам, обратил взгляд к говорившему через пятнадцать минут после того, как его голова рассталась с телом. Но в какой степени это движение было рефлекторным или оказалось преувеличено в пересказе – этого не мог сказать никто. В 1803 году двое немецких ученых решили подойти к вопросу с большей научной строгостью. Они набрасывались на головы, стоило им упасть, и немедленно осматривали на наличие признаков сознания, крича: «Вы меня слышите?» Ни одна не ответила, и исследователи пришли к выводу, что потеря сознания следовала немедленно или, по крайней мере, слишком быстро, чтобы этот отрезок времени можно было измерить.
Ни одна другая часть тела не изучалась так бестолково и не сопротивлялась так пониманию исследователей, как голова. Девятнадцатый век, в частности, был в этом отношении буквально золотой порой. В ту эпоху родились две очень разные, но часто путаемые дисциплины – френология и краниометрия. Френология соотносила рельеф шишек на черепе с умственными способностями и чертами характера, и последователи ее всегда были немногочисленны. Почти все без исключения краниометристы отмахивались от френологии как от смехотворной псевдонауки, одновременно с этим продвигая собственную альтернативную околесицу. Краниометрия занималась более точными и тщательными измерениями объема, формы и структуры головы и мозга, но выводы ее, нужно отметить, были не менее нелепы[178].
Самым большим энтузиастом краниометрии был ныне забытый, но когда-то весьма известный врач из Центральной Англии Барнард Дэвис (1801–1881). В 1840-х годах Дэвис проникся краниометрией и быстро стал первым в мире специалистом по ней. Из него буквально полились книги с такими внушительными названиями, как «Своеобразие устройства черепа обитателей некоторых групп островов в западной части Тихого океана» и «О весе мозга у различных человеческих рас». Они оказались на удивление популярны. Опус «О синостозности в черепах туземных человеческих рас» выдержал пятнадцать изданий. Эпичное двухтомное сочинение Crania Britannica переиздавалось тридцать один раз.
Дэвис прославился настолько, что люди со всего земного шара, в том числе президент Венесуэлы, оставляли ему на изучение свои черепа[179]. Постепенно он собрал самую большую в мире коллекцию; она насчитывала 1540 черепов – больше, чем во всех остальных научных институтах мира, вместе взятых.
Дэвис почти ни перед чем не останавливался в погоне за новыми экземплярами в свою коллекцию. Пожелав заполучить черепа представителей коренного народа Тасмании, он написал Джорджу Робинсону, назначенному правительством на пост защитника аборигенов, и попросил прислать ему несколько штук. Поскольку к тому моменту разграбление могил аборигенов уже считалось преступным деянием, Дэвис снабдил Робинсона подробной инструкцией о том, как отделить череп тасманийца от тела, заменив его любым подходящим черепом, так чтобы не возникло подозрений. И очевидно, преуспел, поскольку его коллекция вскоре пополнилась шестнадцатью тасманийскими черепами и одним целым скелетом.
Главным стремлением Дэвиса было доказать, будто темнокожие люди созданы отдельно от светлокожих. Он был убежден, что интеллект человека и его моральный компас нестираемо запечатлены в изгибах и отверстиях черепа и являются продуктами исключительно расы и класса[180]. По его мнению, к людям с «цефалическими особенностями» следовало относиться «не как к преступникам, а как к опасным идиотам». В 1878 году, в возрасте семидесяти семи лет, он женился на женщине на пятьдесят лет младше себя. О строении ее черепа история умалчивает.
Это инстинктивное желание европейских ученых доказывать, что все другие расы второсортны, было весьма широко распространенным, если не универсальным. В 1866 году в Англии почтенный врач Джон Лэнгдон Хэйдон Даун (1828–1896) впервые описал недуг, который мы сегодня знаем под названием синдрома Дауна, в статье «Заметки об этнической классификации идиотов», но он называл его «монголизмом», а больных – «монголоидными идиотами», абсолютно убежденный в том, что они страдают врожденной регрессией к низшему, азиатскому типу[181]. Даун полагал – и никто его мнения как будто не оспаривал, – что между идиотизмом и этнической принадлежностью имеется тесная связь. Он также записал в регрессивные типы «малайский» и «негроидный».
Тем временем в Италии самый выдающийся физиолог страны Чезаре Ломброзо (1835–1909) параллельно с ним вывел теорию, называемую криминальной антропологией. Ломброзо полагал, что преступников порождает эволюционный атавизм, а криминальные наклонности можно предугадать по ряду анатомических особенностей: крутости лба, форме мочек ушей, даже расстоянию между пальцами ног. (Как он объяснял, люди, у которых пальцы широко расставлены, более близки к обезьянам.) Хотя его заявления не имели ни крупицы научного обоснования, Ломброзо получил широкую известность – даже сегодня его иногда называют отцом современной криминологии.
Ломброзо часто вызывали в суд в качестве эксперта. В одном из случаев, описанном в книге Стивена Джея Гулда «Ложное измерение человека» (The Mismeasure of Man), его попросили определить, кто из двух мужчин убил женщину. Ломброзо объявил одного из подозреваемых бесспорно виновным, потому что у него обнаружились
массивные челюсти, лобные пазухи и зигоматы, тонкая верхняя губа, огромные резцы, необычайно крупная голова [и] приглушенность тактильного восприятия, сопровождаемая сенсорным манчинизмом.
И неважно, что никто не понял и половины этих слов, а прямых улик против бедняги не было вовсе. Его осудили.
Но самым влиятельным – и неожиданным – сторонником краниометрии стал великий французский анатом Пьер Поль Брока (1824–1880). Брока был, без всякого сомнения, блестящим ученым. В 1861 году во время вскрытия жертвы инсульта, которая долгие годы ничего не говорила, а лишь без конца повторяла слог «тан», Брока обнаружил в лобной доле мозга речевой центр – никто еще до этого не связывал отдельный участок мозга с конкретной функцией[182]. Речевой центр до сих пор называется центром Брока, а открытый им недуг – афазией Брока. (Страдающий этим заболеванием понимает речь, но неспособен ответить – ему доступны лишь бессмысленные звуки или, в некоторых случаях, пустые фразы вроде «Вот как» или «О боже».)
Однако в отношении особенностей характера Брока оказался не столь прозорлив. Он был убежден, даже когда все факты противоречили этому убеждению, что у женщин, преступников и темнокожих иностранцев мозг менее крупный и активный, чем у белых мужчин. Когда ему представляли доказательства ошибочности такой позиции, он всякий раз отметал их, заявляя, что в них наверняка кроется изъян. Также он не спешил верить проведенному в Германии исследованию, которое показало, что мозг немца в среднем на сто граммов тяжелее мозга француза. Столь конфузную разницу он объяснил, предположив, что все французы в исследовании были очень стары и мозги у них усохли. «Степень ущерба, который старость способна нанести мозгу, значительно варьируется», – заявил он. Кроме того, ему пришлось попыхтеть, объясняя, почему у некоторых из казненных преступников мозг оказывался крупным, – в конце концов он решил, что их мозг искусственно разбухал от стресса при повешении. Самый скандальный оборот дело приняло, когда после смерти Брока измерили его собственный мозг и оказалось, что его размеры – меньше среднего.
Человеком, который наконец заложил для исследований человеческой головы хоть что-то похожее на крепкий научный фундамент, был не кто иной, как великий Чарльз Дарвин. В 1872 году, спустя тринадцать лет после работы «Происхождение видов», Дарвин опубликовал еще один знаковый труд «О выражении эмоций у человека и животных», в котором адекватно и без предубеждений рассматривалась мимика. Книга перевернула всеобщие представления не только своей разумностью, но и замечанием о том, что существуют способы выражения эмоций, по-видимому общие для всех народов. Это была гораздо более смелая мысль, чем нам может показаться сегодня, ибо она подчеркивала убеждение Дарвина в том, что все люди, независимо от расы, имеют общее происхождение, а в 1872 году подобные идеи считались просто-напросто революционными.
Дарвин осознал именно то, что инстинктивно понимают все дети, – что человеческое лицо крайне выразительно и мгновенно притягивает взгляд. Кажется, относительно того, сколько выражений ему подвластно, не существует даже двух одинаковых мнений – оценки варьируются от 4100 до 10 000, – но их явно очень много[183], [184]. В изменении выражения лица участвует более сорока мышц – а это значительная часть общего количества мускулов в теле. Говорят, что только-только появившиеся на свет младенцы уже предпочитают лицо или даже смутные очертания лица любому другому предмету. Есть целые участки мозга, занятые одним лишь распознаванием лиц.
Мы невероятно чувствительны к мельчайшим изменениям настроений или выражений, даже если не всегда замечаем их сознательно. В ходе эксперимента, который Дэниел Макнилл описал в своей книге «Лицо» (The Face), мужчинам показывали две фотографии женщин, идентичные во всех отношениях – за исключением того, что на одной из фотографий зрачки были слегка увеличены. Хотя изменения были настолько незначительными, что их нельзя было заметить осознанно, испытуемые неизменно находили женщин с увеличенными зрачками более привлекательными, хотя и не могли объяснить почему.




