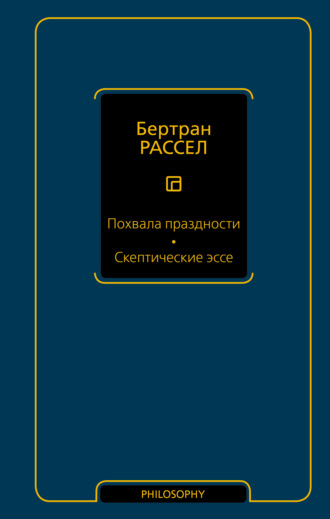
Бертран Рассел
Похвала праздности. Скептические эссе
Глава II
«Бесполезные» знания
«Знание – сила», – утверждал Фрэнсис Бэкон, который достиг больших высот, предавая друзей. Вывод этот, несомненно сделанный на основе личного опыта, едва ли справедлив в отношении любого знания.
Сэра Томаса Брауна, например, интересовало, какую песню пели сирены, однако сомневаюсь, что ответ на этот вопрос помог бы ему, городскому чиновнику, стать верховным шерифом графства. Бэкон явно имел в виду так называемые научные знания. Подчеркивая важность наук, он не ко времени возрождал традиции арабов и раннего Средневековья, согласно которым знания в основном касались астрологии, алхимии и фармакологии, относившихся тогда к отраслям науки. Ученым считался человек, постигший эти дисциплины и овладевший искусством магии. В начале одиннадцатого века лишь за то, что читал книги, папа Сильвестр II прослыл колдуном, продавшим душу дьяволу. Просперо, вымышленный персонаж Шекспира, в течение столетий являл собой обобщенный образ ученого, по крайней мере в том, что касалось его колдовской силы. Бэкон, как мы теперь убедились, не ошибался: волшебная палочка науки способна наделить таким могуществом, которое и не снилось некромантам прежних веков.
Эпоха Возрождения, во времена Бэкона достигшая в Англии своего пика, сопровождалась бунтом против чисто прагматического взгляда на знание. Древние греки знали Гомера так же, как мы – песни мюзик-холла, потому что он доставлял им удовольствие, и никто не считал это обучением. А вот жителям шестнадцатого века он не давался без серьезной лингвистической подготовки. Они восхищались греками и не желали отказывать себе в удовольствиях, копируя их как в чтении, так и в том, о чем не принято говорить открыто. Обучение перешло при Ренессансе в разряд joie de vivre[4] наряду с выпивкой и занятием любовью. Помимо литературы веяние это распространилось и на точные науки. Многим известна история о том, как Томас Гоббс открыл для себя Евклида. Наткнувшись случайно в книге на теорему Пифагора, Гоббс воскликнул: «Да быть того не может!» – и принялся читать доказательство с конца, пока не дошел до исходных аксиом, которые его наконец убедили. Без сомнения, в тот момент он испытал чистейшее наслаждение, неоскверненное мыслью о пользе геометрии для измерения земельных наделов.
Безусловно, во время Ренессанса древним языкам нашлось и практическое применение. В теологии одним из первых результатов нового интереса к классической латыни стало разоблачение поддельных указов и дарственных императора Константина. А неточности, обнаруженные в «Вульгате» и «Септуагинте», сделали древнегреческий и иврит обязательной составляющей в полемике протестантских богословов. Республиканские догмы Греции и Рима пошли в ход для оправдания сопротивления пуритан Стюартам, а иезуитов – монархам, которые не признавали верховенство папы римского. Однако все это было скорее следствием, нежели причиной возрождения классической школы, достигшей наивысшего размаха в Италии примерно за сто лет до Лютера. Главной же движущей силой Ренессанса было интеллектуальное наслаждение, восстановление богатства искусства и свободы мысли, утраченных за то время, что разум пребывал в тисках невежества и суеверий.
Как выяснилось, древние греки посвящали себя не только литературе и искусству, но и занимались философией, геометрией и астрономией. Эти науки уважали, к остальным же дисциплинам относились по-разному. Медицина, например, хоть и почиталась благодаря Гиппократу и Галену, приравнивалась к магии и практиковалась почти исключительно арабскими и еврейскими знахарями. Отсюда и сомнительная репутация людей вроде Парацельса. С химией дела обстояли еще хуже: она оставалась в загоне вплоть до восемнадцатого века.
Таким образом, владение древнегреческим и латынью наряду с поверхностными знаниями геометрии и, пожалуй, астрономии вошло в интеллектуальный набор любого джентльмена. Сами греки пренебрегали практическим использованием геометрии, а для астрономии нашлось применение лишь в период упадка, да и то под видом астрологии. В шестнадцатом и семнадцатом веках математика изучалась в основном с эллинской отрешенностью, в то время как остальные науки впали в немилость из-за их связи с колдовством.
Переход к знанию как к более широкому и прикладному понятию, постепенно происходивший на протяжении восемнадцатого века, получил резкий толчок в связи с Великой французской революцией и развитием техники. Первая нанесла удар по аристократической культуре, последняя открыла новые, невиданные доселе возможности для отнюдь не аристократических навыков. В течение последних ста пятидесяти лет «бесполезные» знания подвергались все более серьезным сомнениям, тогда как убежденность, что важны лишь те знания, которые пригодны в экономической жизни общества, росла и крепла.
В странах с традиционной системой образования, таких как Франция и Англия, увлеченность прикладной стороной знания преобладала лишь отчасти. До сих пор в университетах можно встретить профессоров, преподающих китайскую классику и незнакомых при этом с работами Сунь Ятсена, основавшего современный Китай. До сих пор можно встретить знатоков древнейшей истории в представлении авторов высокого стиля, то есть до Александра Македонского в Греции и Нерона в Риме; изучать более актуальную историю они не желают из-за литературного несовершенства писавших ее историков. Тем не менее даже во Франции и Англии старые традиции отмирают, а в более современных странах, таких как Россия и Соединенные Штаты, они и вовсе полностью искоренены.
Американские комитеты по образованию, например, утверждают, что в деловой корреспонденции большинство людей использует всего тысячу пятьсот слов, и посему настаивают на исключении остального словарного запаса из школьной программы. Британцы пошли еще дальше и изобрели «базовый английский», сократив необходимый для общения лексикон до восьми сотен слов. Представление о том, что речь может обладать эстетической ценностью, отходит в прошлое и заменяется суждением, что единственное назначение слов – передавать информацию.
В России погоня за целесообразностью еще более фанатична, чем в Америке: в учебных заведениях преподается только то, что служит определенным целям в образовании или управлении. Исключение делается лишь для «теологов»: должен ведь кто-то изучать священные манускрипты в оригинале на немецком языке, да горстке профессоров разрешено заниматься философией для защиты диалектического материализма от нападок буржуазных метафизиков. Не сомневаюсь, что как только ортодоксальность окончательно утвердится, замуруют и эту лазейку.
Повсюду знание перестает цениться само по себе или как средство всестороннего гуманного познания жизни в общем, становясь просто частью обязательных практических умений. Таков признак повсеместной интеграции общества, вызванной научно-техническим прогрессом и требованиями военного времени. Настолько тесной взаимозависимости между экономикой и политикой, как сейчас, еще не бывало, и человек подвергается все большему социальному давлению, вынуждающему его вести образ жизни, который кажется целесообразным соседям.
Учебные заведения, кроме тех, что доступны самым богатым, или которых (в Англии) не трогают в силу их древности, не могут тратить деньги по своему усмотрению, а должны убеждать Государство, что выполняют свое назначение: обеспечивают правильно обученных верноподданных. Все это неотъемлемая часть движения, которое привело к обязательной военной службе, организациям бойскаутов, политическим партиям и разжиганию политических страстей прессой. Мы более чем когда-либо подстраиваемся под сограждан, больше заботимся (если мы порядочные люди) о том, чтобы им не навредить, но и чтобы они, упаси бог, не навредили нам. Мы осуждаем тех, кто праздно наслаждается жизнью, каким бы возвышенным ни было их времяпрепровождение. Мы полагаем, что каждый обязан внести свой вклад в общее правое дело (что бы это ни значило), тем более что у правого дела масса врагов, с которыми постоянно приходится бороться. Поэтому мы не можем позволить разуму расслабиться и выделить место для иных знаний, нежели тех, которые помогают нам в борьбе за то, что в тот момент считается важным.
В защиту утилитарного взгляда на образование говорит многое. Невозможно изучить все до вступления во взрослую жизнь, да и «полезные» знания, безусловно, очень полезны. Они – фундамент современного мира. Без них не было бы ни станков, ни автомобилей, ни железных дорог, ни аэропланов; кстати, также не было бы и нынешней рекламы с пропагандой. Современные знания поспособствовали улучшению всеобщего здоровья и одновременно изобретениям множества способов отравления больших городов ядовитыми газами. Все, что отличает наш мир от прошлого, уходит корнями в «полезные» знания. От них пока не готово отказаться ни одно общество, и задача образования, вне всякого сомнения, – их культивировать.
Следует признать, что громадная часть традиционного культурного воспитания бессмысленна. Мальчикам многие годы вбивали латынь и древнегреческий, на которых они в итоге либо не могли, либо не хотели (за малым исключением) читать книги. Изучение современных языков и истории гораздо предпочтительнее латыни и древнегреческого во всех смыслах. Они не только полезнее, но и позволяют намного быстрее приобщиться к обширной мировой культуре.
Для итальянца пятнадцатого века знание древнегреческого и латыни служило ключом к культурному наследию, поскольку все, что стоило прочесть помимо трудов на итальянском, было написано на этих языках. С тех пор появилась литература на стольких современных языках, а цивилизация продвинулась так далеко в своем развитии, что эрудиция в античности не так актуальна для решения нынешних задач, как знания о современных государствах и их относительно недавней истории. Кругозор традиционного школьного учителя, прекрасно подходивший для эпохи Возрождения, стал слишком узок, потому что не вобрал в себя изменения, произошедшие в мире после пятнадцатого века. И дело не только в истории и иностранных языках. Должным образом преподаваемые естественные науки также вносят вклад в культурное воспитание. Именно поэтому утверждение о том, что образование должно иметь и другие цели, помимо практической пользы, не означает возврат к традиционным учебным программам. Полезность и культура, в их широком понимании, оказываются гораздо более совместимы, чем это кажется фанатичным приверженцам лишь одной из сторон.
Даже когда культура не связана напрямую с практикой, в знаниях, которые нельзя непосредственно использовать для повышения эффективности, есть косвенная польза. Думаю, что многие недостатки современности удалось бы устранить, будь у нас больше таких знаний и меньше одержимости сугубо прикладными навыками.
Сосредоточение умственной активности целиком на какой-то одной определенной цели в конечном итоге выбивает большинство людей из равновесия, а порой и доводит до нервных срывов. Военные, определявшие стратегию Германии во время войны, совершали ошибки, как, скажем, подводная битва за Атлантику[5], которая привела Америку на сторону Союзников и которая любому человеку со свежим взглядом показалась бы неразумной. Однако немцы не могли оценить ее здраво в силу умственного перенапряжения и нехватки отдыха. То же наблюдается всякий раз, когда люди пытаются решать задачи, требующие непрерывной умственной нагрузки и длительного сдерживания естественных порывов.
Японские империалисты, русские коммунисты, немецкие нацисты – всех их отличает исступленный фанатизм, сопутствующий одержимому преследованию определенных целей. Когда эти цели действительно так важны и достижимы, как видится их фанатикам, успех может стать грандиозным. К сожалению, в большинстве случаев узость видения приводит к тому, что какие-то мощные противодействующие силы либо упускаются из виду, либо воспринимаются как дело рук дьявола, заслуживающее жестокого наказания.
Взрослым, как и детям, необходимы игры, то есть периоды деятельности, не имеющей иных целей, чем простое сиюминутное наслаждение. А чтобы игры выполняли свою функцию, нужно уметь находить удовольствие и заинтересованность в том, что не связано с работой.
Развлечения современного городского населения становятся все более пассивными и массовыми, они все больше состоят в бездеятельном созерцании искусных действий других. Несомненно, развлекаться лучше так, чем вообще никак, и все же у населения, имеющего благодаря образованию широкий круг духовных, не связанных с работой потребностей, развлечения могут быть куда качественнее.
Более оптимальная экономическая система, позволяющая воспользоваться преимуществами техники, должна привести к значительному увеличению свободного времени, которое быстро станет утомительным для любого, у кого в запасе не окажется достаточно интеллектуальных интересов и занятий. Счастливыми в ситуации продолжительного досуга могут быть лишь граждане образованные, наученные не только применять полученные знания на практике, но и испытывать чисто интеллектуальное наслаждение.
Культурная составляющая, успешно усвоенная в процессе получения знаний, формирует характер мыслей и желаний человека, побуждая его хотя бы отчасти уделять внимание вопросам, не имеющим непосредственного отношения к его персоне. Многим кажется само собой разумеющимся, что человек, получив определенные возможности посредством знаний, непременно использует их на благо общества. Однако сугубо утилитарный взгляд на образование не учитывает необходимости тренировать не только навыки, но и намерения. Необученной человеческой натуре присуща жестокость, которая проявляется и в большом, и в малом. Мальчики в школе часто травят новичков или тех, кто одет не как все. Многие женщины (да и немало мужчин) умышленно распространяют злобные сплетни. Испанцы наслаждаются боем быков, британцы упиваются охотой и стрельбой. Те же порывы, но в гораздо более серьезной форме, проявляются в гонении евреев в Германии или кулаков в России. Империализм дает волю жестокости, а в случае войны возводит ее в наивысшую форму проявления общественного долга.
Здесь надо оговориться, что жестокими бывают и высокообразованные люди, однако я не сомневаюсь, что среди них агрессоры встречаются реже, чем среди людей с неразвитым интеллектом. Задиры в школах редко отличаются хорошей успеваемостью. Зачинщики линчевания почти поголовно – невежи. Так происходит не потому, что умственное развитие способствует проявлению гуманности, хотя и это не исключено, а скорее потому, что образованным людям доступны другие интересы, нежели досаждать соседям, и другие источники самоуважения, нежели демонстрация собственной власти.
Больше всего в этом мире люди хотят властвовать и вызывать восхищение. Невежественные люди могут удовлетворить оба эти желания лишь за счет грубой силы, включающей физическое порабощение. Образованность снабжает человека менее варварскими способами достижения власти и более заслуживающими восхищения действиями. Галилей добился таких перемен в мире, о каких не мечтал ни один монарх, а его влияние неизмеримо превзошло власть тех, кто его преследовал. Так что самому Галилею незачем было становиться преследователем.
Пожалуй, главное достоинство «бесполезного» знания в том, что оно прививает привычку размышлять. В мире слишком много рвения не только к непродуманным заранее действиям, но и к случайным поступкам, от которых мудрый человек воздержится. У этой склонности есть много любопытных проявлений. Мефистофель внушал своему юному ученику, что теория суха, а древо жизни зеленеет, и все приписывают эти слова Гёте, хотя тот всего лишь предположил, чему мог учить дьявол. Гамлет считается зловещим предостережением против бездеятельного раздумья, однако почему-то никто не считает Отелло предостережением против бездумных действий. Профессора-снобы вроде Бергсона, восхваляющие деятельного человека, хулят философию, говоря, что жизнь должна напоминать кавалерийскую атаку. Со своей стороны я думаю, что действовать лучше всего исходя из глубокого понимания Вселенной и человеческой участи, а не под влиянием необузданного порыва к романтическому, но неадекватному самоутверждению. Привычка довольствоваться мыслями, а не действиями защищает от опрометчивости и чрезмерной жажды власти, сохраняет рассудок в беде и присутствие духа среди волнений. Жизнь, всецело вращающаяся вокруг собственной персоны, рано или поздно становится нестерпимой. Только окно в больший и менее издерганный мир помогает переносить жизненные невзгоды.
Привычка размышлять полезна в самых разных ситуациях, от совсем тривиальных до очень серьезных. Начнем с мелких неприятностей вроде блох, опоздания на поезд или несговорчивых деловых партнеров. Такие мелочи, казалось бы, едва ли заслуживают глубоких размышлений о чудесах героизма или мимолетности человеческих бед, и тем не менее вызываемое ими раздражение способно сильно испортить настроение и лишить радости жизни. В подобные моменты очень пригодится какой-либо посторонний факт, имеющий реальную или воображаемую связь с раздражающей ситуацией, а может, даже и вовсе к ней не относящийся, а просто отвлекающий от неприятных мыслей. Когда на вас орет побелевший от гнева начальник, приятно вспомнить главу декартовского «Трактата о страстях» под названием «Почему бледнеющие от ярости люди опаснее тех, что багровеют». Человеку, который беспокоится по поводу незадавшегося международного сотрудничества, неплохо бы вспомнить о возведенном в ранг святых короле Людовике IX. Прежде чем отправиться в крестовый поход, тот вступил в сговор со Старцем горы, которому в «Тысяче и одной ночи» приписывается чуть ли не половина мирового зла. Когда вас начинает угнетать жадность капиталистов, можно найти утешение в знании, что Брут, эталон республиканской порядочности, одолжил деньги одному городу, а когда горожане не смогли выплатить назначенную сорокапроцентную ставку, нанял частную армию для его осады.
Знание любопытных фактов делает неприятное менее неприятным, а приятное еще приятнее. Я получаю куда больше удовольствия от персиков и абрикосов с тех пор как узнал, что их впервые начали выращивать в Китае на заре династии Хань, что китайские пленники великого царя Канишки распространили их в Индии, откуда те пришли в Персию и достигли Римской империи в первом веке нашей эры, что слово «apricot» происходит из того же латинского корня, что и «precocious» (скороспелый), потому что абрикосы поспевают рано, и что буква «а» в начале появилась вследствие этимологической ошибки. Теперь абрикосы для меня несравнимо слаще!
Примерно сто лет назад группа благонамеренных филантропов учредила общества с целью «распространения полезных знаний», в результате чего у людей пропал вкус к «бесполезным» знаниям.
Открыв наугад «Анатомию меланхолии» Бертона в день, когда мне угрожало именно такое состояние, я узнал о существовании «меланхолической субстанции». В то время как некоторые полагают, что она является производной от всех «жизненных соков», преобладающих в четырех темпераментах, «Гален утверждает, что в ней присутствуют только три, исключая флегму, или мокро́ту, и убеждение оное разделяют Валериус и Менардус, равно как и Фуций, Монтальто и Монтано. Как может, вопрошают они, белое вдруг почернеть?». Несмотря на такой неопровержимый довод, Геркулес Саксонский и Кардан, Гварнери и Лауренцио придерживались, если верить Бертону, противоположного мнения. Убаюканная этими древними дебатами, моя меланхолия, вызванная то ли тремя, то ли четырьмя телесными жидкостями, рассеялась. Более эффективное средство от излишнего рвения трудно себе и представить.
Несмотря на то что тривиальная образованность способна скрасить нам мелкие житейские невзгоды, главная ценность размышлений проявляется во времена более серьезных несчастий: смерти, боли, жестокости и слепого шествия наций навстречу бессмысленной катастрофе.
Разочарованные в догматической религии, люди стремятся найти ей замену, если, конечно, не скатываются в грязь, грубость и примитивное самоутверждение. Мир заполонили озлобленные эгоцентричные группы, ни одна из которых не способна увидеть человеческую жизнь как часть единого целого, и каждая скорее уничтожит цивилизацию, чем уступит хоть на дюйм. От подобной ограниченности узконаправленное образование не излечит. Противоядие – в том, что касается индивидуальной психологии, – следует искать в истории, биологии, астрономии и других дисциплинах, которые позволяют личности увидеть себя в истинном свете без ущерба самоуважению. Здесь нужна не какая-то конкретная информация, а такие знания, которые дают представление о назначении человеческой жизни в целом: искусство и история, знакомство с жизнью героических личностей и понимание удивительной случайности возникновения человека и его эфемерности в масштабах Вселенной. Знания, которые вызывают чувство гордости за людей: за их способность видеть, узнавать, проявлять великодушие, мыслить и понимать. Именно широкое восприятие в сочетании с беспристрастием и рождает мудрость.
Жизнь, во все времена наполненная страданием, угнетает теперь даже больше, чем в два предшествующих столетия. Попытка избежать боли толкает человека на обывательщину, самообман и рождение нескончаемых коллективных мифов. Увы, они приносят лишь временное облегчение, которое рано или поздно усиливает источники страданий. Как с личными, так и с общественными неудачами можно справиться, только задействуя волю и разум: волю – чтобы не давать себе смиряться со злом и соглашаться с невыполнимыми планами, а разум – чтобы разобраться в проблеме, найти решение, если она решаема, или же принять ее как неизбежную и облегчить муки, посмотрев на неудачу с разных сторон и вспомнив о том, что за ее пределами существуют другие края, другие времена и безграничные межзвездные пространства.







