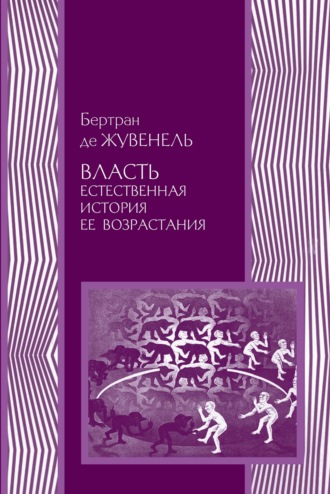
Бертран де Жувенель
Власть. Естественная история ее возрастания
Руссо привносит политическую динамику. Он хорошо понял, что люди Власти формируют организм[64], что в этом организме живет воля[65] и что он нацелен на присвоение себе суверенитета: «Чем больше эти усилия, тем больше портится государственное устройство; а так как здесь нет другой воли правительственного корпуса, которая, противостоя воле государя [понимайте – Власти], уравновешивала бы ее, то рано или поздно должно случиться, что государь в конце концов угнетает суверена [народ] и разрывает общественный договор. В этом и заключается неизбежный порок политического организма, присущий ему с самого рождения и беспрестанно ведущий его к разрушению, подобно тому, как старость и смерть разрушают в конце концов тело человека»[66].
Эту теорию Власти отличает громадное продвижение вперед по сравнению с теориями, которые мы рассмотрели ранее. Они объясняли Власть исходя из обладания ею таким неограниченным правом повелевания, которое исходило бы от Бога или от общества в целом. Но из них не было ясно, почему от одной Власти к другой или от одной эпохи до другой в жизни одной и той же Власти конкретный объем повелевания и повиновения оказывался столь различным.
В основательной конструкции Руссо, мы, напротив, находим попытку такого объяснения. Если данная власть обретает разный размах от одного общества к другому, то это потому, что общество, единственный обладатель суверенитета, предоставило ей более или менее широкую возможность его осуществления. Если же размах одной и той же Власти изменяется на протяжении ее существования, то это прежде всего потому, что она беспрестанно стремится узурпировать суверенитет, и по мере того как ей это удается, все более свободно и более полно распоряжается людьми и общественными средствами. Так что правительства наиболее «узурпаторские» представляют наиболее высокую степень власти.
Однако остается не объясненным, откуда Власть черпает силу, необходимую для этой узурпации. Ибо если ее сила приходит к ней от общественных масс и потому, что она воплощает общую волю, то тогда ее сила должна уменьшаться по мере того как она отходит от упомянутой общей воли, и ее влияние должно исчезать по мере того как она становится отличной от общего желания. Руссо полагает, что правительство по некой природной склонности из большого становится малым, переходя от демократии к аристократии – он приводит пример Венеции* – и наконец, к монархии, которая кажется ему заключительным состоянием общества и которая, став деспотической, в конечном итоге приводит к смерти общественного организма. История не показывает нам нигде, чтобы такая последовательность была неизбежной. И непонятно, откуда кто-то один мог бы извлечь средства для осуществления воли, все более и более полно отделяющейся от общей воли.
Недостаток теории Руссо в ее неоднородности. У нее есть достоинство – она рассматривает Власть как факт, как средоточие силы; но она пока еще представляет суверенитет как право, в духе Средневековья. Здесь есть путаница, из-за которой остается необъясненной сила Власти и остаются неизвестными силы, способные – в обществе – ее умерить или остановить.
Тем не менее какой прогресс по сравнению с предшествующими системами! И в отношении сути дела – какая проницательность!
Как суверенитет может контролировать Власть
Созданная Руссо теория народного суверенитета являет поразительный параллелизм со средневековой теорией божественного суверенитета.
Та и другая допускают неограниченное право повелевания, которое, однако, не присуще правителям. Это право принадлежит верховной власти – Богу или народу, – которая по своей природе сама препятствует его осуществлению. И которая, таким образом, должна предоставлять полномочие на реальную Власть.
Более или менее ясно, что уполномоченные сдерживаются нормами: поведение Власти определено божественной или общей волей.
Но эти уполномоченные – будут ли они с необходимостью преданными? Или они будут стремиться присвоить себе повелевание, которое осуществляют посредством представительства? Не забудут ли они вовсе цель, для которой были назначены, – общее благо – или условия, на которых они подчинились, – исполнение Божественного или народного закона[67] – и не узурпируют ли они в конце концов суверенитет?
Так что в результате они будут выдавать себя за личности, выражающие божественную либо общую волю, как, например, Людовик XIV, присваивающий себе права Бога, или Наполеон, присваивающий себе права народа[68].
Как этому помешать, если не посредством контроля суверена над Властью? Но природа суверена не позволяет ему не только управлять, но и контролировать. Отсюда идея такого организма, который, представляя суверена, следит за действующей Властью, уточняет при случае нормы, по которым та должна действовать, и, если необходимо, объявляет о лишении ее прав и принимает меры по ее замещению.
В системе божественного суверенитета таким организмом неизбежно была церковь[69]. В системе народного суверенитета это будет парламент.
Следовательно, осуществление суверенитета оказывается конкретно разделенным, он обнаруживает дуализм человеческой Власти. Власть светская и Власть духовная в мирской области либо исполнительная и законодательная. Вся метафизика суверенитета ведет к этому разделению и не может его допустить. Эмпирики могут найти здесь защиту свобод. Но это должно вызывать возмущение у всякого, кто верит в суверенитет единый и неделимый по существу. Как так – он, оказывается, поделен между двумя категориями действующих сил! Две воли сталкиваются лицом к лицу, но сразу обе не могут быть волей божественной или народной. Необходимо, чтобы подлинным отражением суверена была одна из двух; значит, противная воля является мятежной и должна быть подчинена. Эти следствия логичны, если в воле, которая должна быть повинующейся, присутствует принцип Власти.
Значит необходимо, чтобы суверенитет был захвачен каким-то одним организмом. На исходе Средних веков это была монархия.
В Новое время это исполнительная или законодательная власть, в наибольшей степени связанная с народным суверенитетом[70], – когда глава исполнительной власти выбран непосредственно народом, как Луи Наполеон, как Рузвельт; при парламенте, наоборот, как в Третьей республике во Франции*, глава исполнительной власти в наибольшей степени отдален от источника права.
Так что те, кто контролируют Власть, либо оказываются в конечном итоге устранены, либо, как представители суверена, подчиняют себе действующие силы и присваивают себе суверенитет.
Замечательно в этом отношении, что, умаляя, как только можно, власть правителей, Руссо питал необычайное недоверие к «представителям», которых в его время так ценили, за то, что они постоянно приводили Власть к исполнению своего долга.
«Средство предотвратить узурпацию правления» он видит только в периодических собраниях народа, на которых оценивается, как использовалась власть, и решается, не следует ли заменить форму правления и тех, кто его осуществляет.
Руссо не заблуждался, он понимал, что данный способ действий неприемлем. В упорстве, с которым он его предлагал, следует видеть доказательство его категорического неприятия метода контроля, который действовал в Англии и который Монтескьё превознес до небес, – контроля со стороны парламента. Руссо восстает против этой системы с какой-то яростью. Она ему явно ненавистна: «Суверенитет не может быть представляемым… Депутаты народа, следовательно, не являются и не могут являться его представителями… Понятие о представителях принадлежит новым временам; оно досталось нам от феодального правления, от этого вида правления, несправедливого и нелепого, при котором род человеческий пришел в упадок, а звание человека было опозорено»[71].
Он нападает на представительную систему страны, которую Монтескьё считал образцом совершенства: «Английский народ считает себя свободным; он жестоко ошибается. Он свободен только во время выборов членов парламента; как только они выбраны – он раб, он ничто. Судя по этому применению, которое он дает своей свободе в краткие мгновения обладания ею, он вполне заслуживает того, чтобы он ее лишился»[72].
Почему же столь гневно?[73] Потому что Руссо понял: после того как суверенитет сделался таким великим, стоит лишь признать, что суверен может быть представленным, и уже нельзя помешать представителю присвоить себе этот суверенитет. И в самом деле, всякая тираническая власть, с тех пор возникавшая, оправдывала свою несправедливость в отношении личных прав претензией на присвоение себе представительства народа.
Особо отметим – Руссо предвидел то, что, кажется, ускользнуло от Монтескьё: что сила парламента, растущая в данный момент в ущерб исполнительной власти и, следовательно, ограничивающая Власть, в конце концов подчинит себе исполнительную власть, сольется с нею и создаст такую Власть, которая сможет претендовать на суверенитет.
Теории суверенитета, рассматриваемые с точки зрения их результатов
Если теперь мы бросим общий взгляд на рассмотренные выше теории, то заметим, что все они имеют целью заставить подданных повиноваться, и показывают, что за Властью стоит некий трансцендентный принцип, – Бог или народ, наделенный абсолютным правом. Все они также имеют целью действительно подчинить Власть указанному принципу. Следовательно, эти теории являются вдвойне дисциплинарными, имея в виду дисциплину подданного и дисциплину власти.
В качестве меры по дисциплинированию подданного они предлагают усиление фактической Власти. Но, строго обуздывая эту Власть, они уравновешивают ее усиление… при условии, что им удается практически осуществить упомянутую подчиненность Власти. В этом загвоздка.
Средства, используемые на практике для того, чтобы держать Власть в узде, получают тем большее значение, что суверенное право, которое она отваживается себе присвоить, понимается как самое неограниченное и, следовательно, заключает в себе больше опасности для общества, если захватывается Властью.
Но суверен не способен выступать in toto*, чтобы заставлять правителей выполнять свой долг. Значит, ему нужен некий контролирующий орган; а этот последний, занимая место рядом с правительством или над ним, будет стараться захватить и объединить в себе оба качества – правителя и надсмотрщика, что практически облечет его неограниченным правом повелевания.
Следовательно, не будут лишними никакие меры предосторожности, иначе то, что ведет к разъединению Власти и ее контролера – разделение прерогатив или быстрая сменяемость должностных лиц, – становится причиной слабости в управлении социальными интересами и беспорядка в обществе. Слабость и беспорядок, в конце концов невыносимые, естественно, становятся причиной объединения частей суверенитета в единое целое, и тогда Власть оказывается наделена деспотическим правом.
И притом деспотизм будет тем сильнее, чем шире будет пониматься право суверенитета, в то время как полагали, что он защищен от любого захвата.
Если никоим образом не допускается, что законы общества могут быть изменены, то деспот будет поддерживаться всеми ими. Если же допускается, что в этих законах есть некая неизменная часть, которая соответствует божественным установлениям, то она во всяком случае будет незыблемой.
Здесь неясно угадывается, что из народного суверенитета может выйти деспотизм более основательный, чем из суверенитета божественного. Ведь тиран – будь то индивидуум или коллектив, – сумевший, предположим, захватить тот или иной суверенитет, не смог бы, приказывая невесть что, ссылаться на божественную волю, которая представляется в виде вечного Закона. Общая воля, напротив, не является незыблемой по природе, но изменчива. Поскольку она не предопределена Законом, ее можно заставить говорить в последовательно меняющихся законах. В таком случае у узурпаторской Власти развязаны руки и она является более свободной, а свобода Власти называется произволом.
Глава III
Органические теории Власти
В теориях суверенитета гражданское повиновение объясняется и оправдывается исходя из права повелевать, которое Власть обретает в силу своего божественного либо народного происхождения.
Но разве у Власти нет цели? Разве не должна она стремиться к общему благу (расплывчатый термин с изменчивым содержанием, нечеткость которого соответствует неопределенному характеру человеческих устремлений)?
И разве возможно, чтобы Власть, законная по своему происхождению, правила настолько вразрез с общим благом, чтобы повиновение оказалось поставленным под вопрос? Теологи часто обращались к этой проблеме, также подчеркивая идею цели. Некоторые из них утверждали, что Власти дóлжно подчиняться, даже если она несправедлива, но подавляющее большинство и самые высокие авторитеты, наоборот, пришли к мнению, что несправедливая цель правительства разрушает его справедливое основание. И в частности, св. Фома подчеркивал большее значение цели Власти, чем самого ее основания: восстание против власти, которая не преследует общее благо, уже не является мятежом[74].
Сыграв в католической средневековой мысли роль корректива понятия суверенитета (от повиновения Власти, надлежащего по причине ее законности, можно отказаться, если Власть перестает преследовать общее благо[75]), идея цели ушла в тень в теориях народного суверенитета.
Это не означает, конечно, что больше не говорилось, будто задача Власти – обеспечение общей пользы; об этом нигде столько не говорилось, как в этих теориях. Но было постулировано, что Власть, которая являлась бы законной и исходила бы из общества, уже тем самым с необходимостью была бы направлена на общее благо, ибо «общая воля никогда не отклоняется от цели и всегда стремится к общественной пользе»[76].
Идея цели появляется вновь только в XIX в. С тем чтобы оказать совершенно иное, нежели в Средние века, влияние. Тогда она действительно создала препятствие развитию Власти. Теперь, наоборот, она будет способствовать ее развитию. Этот переворот связан с совершенно новым подходом к рассмотрению общества – уже не как совокупности индивидуумов, признающих общие принципы права, но как развивающегося организма. Следует остановиться на этой интеллектуальной революции, поскольку это она придала новым теориям конечной причины их значение и характер.
Номиналистическая концепция общества
Теории суверенитета находят объяснение и в значительной степени обоснование в этой концепции общества.
До XIX в. западным мыслителям не приходило в голову, что в человеческом сообществе, подчиненном общей политической власти, могло бы реально существовать и нечто еще, помимо индивидуумов.
Римляне не воспринимали действительность по-другому. Римский народ был для них объединением людей, а именно конкретным объединением, связанным узами права и созданным ради приобретения общей пользы[77].
Они не представляли себе, чтобы это объединение дало рождение «личности», отличающейся от объединенных индивидуумов. Когда мы говорим «Франция», у нас есть ощущение, что мы говорим о «ком-то»; римляне же, в соответствии с эпохой, говорили «Populus romanus plebisque» или «Senatus populusque romanus»*, ясно показывая посредством такого, по сути описательного, наименования, что они не воображали себе какую-то личность – Рим, но видели физическую реальность, множество объединенных индивидуумов. Слово Populus в его широком смысле означает для них нечто совершенно конкретное – римские граждане, созванные на собрание; они не нуждаются в слове, равнозначном нашему слову «нация», поскольку в результате сложения индивидуумов получается, по их мнению, только арифметическая сумма, а не сущность особого вида. Они не нуждаются также в слове «государство», поскольку не имеют понятия о существовании некой трансцендентной вещи, существующей вне их и над ними, а осознают только свои общие интересы, составляющие Res Publica**.
В этой концепции, завещанной Средним векам, единственной реальностью являются люди. Средневековые теологи и философы XVII и XVIII в. согласны объявить их предшественниками всякого общества. Эти люди создали общество, когда оно стало для них необходимым либо из-за испорченности их природы (теологи), либо из-за жестокости их инстинктов (Гоббс). Но данное общество остается искусственным телом; Руссо говорит это совершенно ясно[78], и сам Гоббс, хотя и поместил на фронтисписе одного из своих сочинений изображение Левиафана, фигура которого состоит из соединенных человеческих образов, не думал, чтобы этот гигант жил некой собственной жизнью. У него нет воли, но воля человека или собрания считается его волей.
Эта чисто номиналистическая концепция общества объясняет понятие суверенитета. В обществе существуют только объединенные люди, разъединение которых всегда возможно. В этом оказываются одинаково убежденными и авторитарист вроде Гоббса, и анархист вроде Руссо. Один видит в таком разъединении бедствие, которое надо предупредить самой крайней строгостью[79], другой – последнее средство, предоставленное угнетенным гражданам.
Но если общество есть лишь искусственное соединение по природе независимых людей, то чего только не потребовалось для того, чтобы склонить их к совместимому образу действий и заставить признать общую власть! Тайна основания общества требует божественного вмешательства или по крайней мере некоего первого торжественного договора всего народа. И какой авторитет еще требуется, чтобы ежедневно поддерживать сплоченность общества! Для этого должно предполагаться такое право, которое вызывает уважение и которое в этих целях никогда не будет слишком преувеличено, – суверенитет (немедленно, впрочем, по согласию или нет, передающийся Власти).
Безусловно, когда самостоятельные части объединяются, чтобы установить между собой определенные отношения и поручить определенным распорядителям соответствующие функции, тогда нельзя, если хотят обеспечить непрерывность связи и строгое исполнение предписанных обязанностей, предоставлять слишком много величия тем, кто должен будет все время направлять единичные воли в общее русло. Мы уже видели в наши дни, как заключается общественный договор между личностями, находящимися в естественном состоянии – bellum omnium contra omnes*. Эти личности были мировыми державами, а договор – Лигой Наций. И это искусственное тело распалось, поскольку в нем не было Власти, поддерживаемой трансцендентным правом, которому права частей не были бы противопоставлены.
Если мне позволят более простой пример, федерации по футболу тоже необходима неограниченная власть, чтобы арбитр, слабый среди тридцати разгоряченных великанов, заставил слышать свой свисток.
Если in abstracto** выдвигалась проблема установления и сохранения связи между независимыми элементами, если представлялось, что присоединением к общественному договору характер этих элементов существенно не изменяется, если предполагалось, что всегда возможны несоответствие и обособление, то нельзя было обойтись без некоего внушительного суверенитета, который мог бы передавать свое достоинство магистратам, считавшимся беззащитными и бессильными.
Рассмотренная в рамках своих постулатов идея суверенитета логична и даже величественна.
Но если общество – явление естественное и необходимое, если для человека материально и морально невозможно быть из него удаленным, если многие другие факторы помимо власти законов и государства связывают человека в социальных отношениях, тогда теория суверенитета доставляет Власти чрезмерное и опасное подкрепление.
Опасности, которые заключает в себе эта теория, не могут проявиться полностью, пока в умах существует породившая ее фундаментальная гипотеза – идея, что люди суть реальность, а общество есть соглашение. Это мнение поддерживает идею о том, что личность есть абсолютная ценность, рядом с которой общество должно восприниматься только как средство. Отсюда и Декларации прав человека – прав, о которые разбивается право самогó суверенитета. Это кажется логически абсурдным, если вспомнить, что данное право абсолютно по определению, но очень хорошо объясняется, если вспомнить, что политическое тело является искусственным, что суверенитет есть престиж, которым оно вооружилось с определенной целью, и что все эти призраки ничто перед реальностью человека. До тех пор пока сохранялась индивидуалистическая и номиналистическая социальная философия, понятие суверенитета не могло, таким образом, нанести вреда, причиной которого оно стало, как только эта философия потеряла свою силу.
Исходя из этого отметим, между прочим, двоякий смысл демократии, которая в социальной индивидуалистической философии понимается как система прав человека, а в политической философии, порывающей с индивидуализмом, – как абсолютизм правительства, ссылающегося на массы.
Реалистическая концепция общества
Мысль не так уж независима, как ей кажется, и философы в гораздо большей степени, чем полагают, обязаны ходячим представлениям и просторечию. Прежде чем метафизика утвердила реальность общества, это последнее должно было сначала принять форму сущности под именем нации.
Это был результат, возможно, наиболее важный, Французской революции. Когда Законодательное собрание втянуло Францию в военную авантюру, на которую монархия никогда бы не рискнула, стало вдруг очевидно, что Власть не располагает средствами, которые ей позволили бы противостоять Европе. Потребовалось призвать к участию в войне почти весь народ – вещь беспрецедентная. Но от чьего имени? От имени скомпрометированного короля? Нет. От имени нации; и так как патриотизм принимал на протяжении тысячи лет форму привязанности к одной личности, естественная склонность чувств заставила нацию принять характер и вид одной личности, черты которой запечатлело народное искусство.
Не признавать потрясений и психологической перестройки, вызванных Революцией, – значит обрекать себя на непонимание всей последующей европейской истории, включая историю мысли. Когда раньше французы объединялись вокруг короля, как после Мальплаке, это были индивидуумы, которые оказывали поддержку своему любимому и уважаемому вождю. Теперь же они объединяются в нацию, как члены единого целого. Возможно, это понимание единого целого, живущего собственной жизнью, которая превыше жизни частей, существовало, не будучи явным. Но оно неожиданно кристаллизуется.
Трон не был опрокинут, но на трон взошло Целое в образе Нации. Такое же живое, как король, которому оно наследовало, но имеющее перед ним громадное преимущество: ибо король очевидно есть другой по отношению к подданному, и тот, естественно, заботится о сохранении своих прав. Нация же не есть другой: это сам подвластный; и тем не менее она больше, чем он, она есть гипостазированное Мы. И этой революционной морали совсем неважно, что на деле Власть осталась намного более похожей на саму себя, чем это представляли, и весьма отличается от конкретного народа.
Вера – вот что важно. И тогда во Франции утвердилась вера, распространившаяся затем в Европе, что существует такая личность, как Нация, естественный обладатель Власти. Наши армии посеяли эту веру в Европе в гораздо большей степени посредством разочарований, которых они были причиной, чем евангелием, которое они принесли. Те, кто сначала оказали им самый восторженный прием (как Фихте), впоследствии проявили себя как самые горячие проповедники противостоящего им национализма.
Именно на фоне подъема немецкого национального чувства Гегель формулирует первую связную доктрину нового явления и присуждает нации диплом о философском существовании. Противопоставив свою доктрину доктрине Руссо, он дает почувствовать, насколько обновилась концепция общества. То, что он называет «гражданским обществом», соответствует представлению об обществе, которое существовало вплоть до Революции. Тогда самым главным были индивидуумы, а самым ценным – их цели и частные интересы. Тем не менее, для того чтобы обеспечить защиту этих индивидуумов от внешней опасности и от опасности, которую они сами представляют друг для друга, необходимы институты. Личный интерес сам по себе требует порядка и Власти, которая бы этот порядок гарантировала. Но сколько бы силы ни хотели придать этому порядку и какими бы полномочиями ни наделяли эту Власть, тот и другая являются морально подчиненными, поскольку установлены лишь для того, чтобы разрешить индивидуумам преследовать личные цели. То, что Гегель называет «государством», наоборот, соответствует новой концепции общества. Как в семье – которая не является для человека простым удобством – человек определяет свое Я и соглашается существовать лишь в качестве члена этого единства, так в нации приходит он к пониманию себя в качестве ее члена, к признанию того, что его предназначение – участвовать в коллективной жизни, сознательно интегрировать свою деятельность в общую деятельность, находить удовлетворение в осуществлении общества, чтобы принимать, наконец, общество как цель.
Логические следствия реалистической концепции
Такова, насколько можно перевести ее на простой язык, концепция Гегеля[80]. Мы видим, как тесно она связана с эволюцией политических мнений; в XIX и XX в. можно будет думать об обществе, как Гегель, никогда о Гегеле не слышав, потому что в этой области он только придал форму новому убеждению, присутствующему, более или менее явно, в умах многих.
Этот новый взгляд на общество чреват далеко идущими последствиями. Понятие общего блага получает содержание, совершенно отличное от того какое оно имело раньше. Речь больше не идет только лишь о содействии каждому индивидууму в реализации его личного блага, которое тот себе ясно представляет, но о том, чтобы обеспечивать общественное благо, являющееся намного менее определенным. Понятие цели Власти обретает совершенно другое значение, чем в Средние века. Тогда этой целью была Справедливость, следовало «jus suum cuique tribuere»*, заботиться о том, чтобы соблюдалось право каждого; но какое право? Право, которое за ним признавал незыблемый закон – обычай. Деятельность Власти была, таким образом, по существу консервативная. Отсюда следует, что идея цели, или финальной причины, не могла быть использована для расширения Власти. Но все меняется с того момента, как права, принадлежащие индивидуумам, личные права, теряют свою ценность по сравнению со все более и более высокой моралью, которая должна осуществляться в обществе. Как действующая сила этого осуществления и в соответствии с этой целью, Власть сможет оправдывать любое увеличение своего объема. Мы полагаем, таким образом, что отныне есть место для теорий финальной причины Власти, бесконечно выгодных этой последней. Достаточно взять, например, в качестве цели неопределенное понятие социальной справедливости.
А что же содержит в себе новая идея относительно Власти?
Раз существует коллективное бытие, бесконечно более важное, чем индивидуумы, то, очевидно, ему и принадлежит передаваемое право суверенитета. А именно суверенитет нации, совершенно отличный, как это часто подчеркивалось[81], от суверенитета народа. В этом последнем, как сказал Руссо, «суверен образуется лишь из частных лиц, которые его составляют…»[82].
Но в суверенитете нации общество реализуется как целое лишь настолько, насколько участники осознают себя его членами и признают его как свою цель; из этого логически следует, что только те, кто приобрели это знание, ведут общество к его осуществлению. Они суть проводники, гиды, и только их воля идентична общей воле, она и есть общая воля.
Таким образом, Гегель полагает, что прояснил понятие, которое, следует признать, у Руссо является достаточно туманным. Ибо женевский мыслитель говорит, что «общая воля никогда не отклоняется от цели и всегда стремится к общественной пользе»[83], но, слишком хорошо зная античную историю, чтобы не помнить о некоторых весьма несправедливых или губительных народных решениях, он тотчас добавляет:
«…но из этого не следует, что решения народа имеют всегда такое же верное направление» и утверждает: «Часто существует немалое различие между волею всех и общею волею.
Эта вторая блюдет только общие интересы». Все это весьма неясно, если только не принимать формулы «она никогда не отклоняется от цели и всегда стремится к общественной пользе… она блюдет только общие интересы» в качестве положений, определяющих некую идеальную волю. Вот что говорит Гегель: общая воля есть та, которая ведет к цели (и это уже не частные интересы с точки зрения того, что есть в них общего, но осуществление более высокой коллективной жизни). Общая воля, двигатель общества, – это воля, которая совершает то, что должно быть совершено, с согласия или без согласия индивидуумов, которые не имеют сознания цели.
Речь идет в итоге о том, чтобы привести социальный организм к подлинному расцвету, ви́дение которого дано только сознательным членам. Они составляют «всеобщий класс», в противоположность тем, кто пребываtт замкнутым в своей особенности.
Следовательно, только сознательной части общества надлежит требовать ради целого. Это вовсе не значит, по мысли Гегеля, что данная часть свободна выбирать ради целого какое угодно будущее. Нет: ее можно назвать сознательной, поскольку она знает, чтó должно быть, знает, чем должно стать целое. Ускоряя появление того, что должно быть, она уже не совершает насилия над целым, как не совершает его и акушер, даже если применяет силу.
Совершенно очевидно, чтó может извлечь из этой теории группа, претендующая быть сознательной, утверждающая, что знает цель, и убежденная, что ее воля соотносится с «рациональным в себе и для себя», о котором говорит Гегель.
Так, прусская администрация, достигшая тогда полного своего развития, находит в гегельянстве оправдание своей роли и своих авторитарных методов. Beamtenstaat*, бюрократическая и ученая Власть, убеждена, что ее воля есть проявление не прихоти самоуправства, но знания того, чтó должно быть. Следовательно, она может и должна подталкивать людей к формам действия и мышления, осуществляющим цель, которую позволил предвидеть разум.
Воплощение в одной группе образа того, чтó должно быть, дает этой группе право на руководящую роль. Научный социализм Маркса знает, чем должен быть пролетариат. Сознательная часть пролетариата может поэтому говорить от имени целого, изъявлять волю от имени целого и должна дать инертной массе сознание того, что та образует это пролетарское целое. Впрочем, осознавая себя, пролетариат сам себя упраздняет как класс и становится социальным целым.


