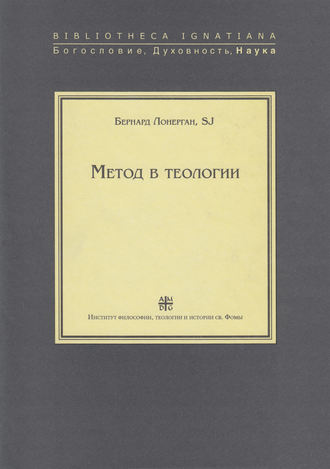
Бернард Лонерган, SJ
Метод в теологии
2. Человеческое благо
Что́ есть благо, это всегда конкретно, тогда как дефиниции абстрактны, и попытки дать дефиницию блага рискуют ввести читателя в заблуждение. В силу этого настоящая глава имеет целью собрать воедино разные компоненты, из которых складывается человеческое благо. Так что речь в ней пойдет об умениях, чувствах, верованиях, сотрудничестве, прогрессе и упадке.
1. Умения
Приобретение умений Жан Пиаже разделил на элементы. Каждый новый элемент состоит в адаптации к некоторому новому объекту или новой ситуации. В каждой адаптации различаются две части – ассимиляция и аккомодация. Ассимиляция вводит в действие спонтанные или предварительно выученные операции, успешно применяемые к похожим объектам или ситуациям. Аккомодация путем проб и ошибок постепенно модифицирует и дополняет предварительно выученные операции.
Когда имеет место аккомодация к еще большему количеству объектов и ситуаций, осуществляется двусторонний процесс. С одной стороны, операции все более дифференцируются, так что в репертуаре человека появляется все большее количество различных операций. С другой стороны, еще более возрастает число различных сочетаний дифференцированных операций. Так, младенец постепенно приобретает развитые оральные, визуальные, мануальные, телесные умения и все чаще комбинирует их все бо́льшим количеством способов.
Умения порождают мастерство. Чтобы дать ему определение, Пиаже привлекает математическое понятие группы. Главная характеристика группы операций заключается в том, что каждой операции в группе соответствует противоположная операция, и каждой комбинации операций соответствует противоположная комбинация. Поэтому постольку, поскольку операции объединяются в группы, оператор всегда может вернуться в начальную точку. Если он безусловно способен это сделать, он достиг некоторого уровня мастерства. Именно благодаря различению и определению различных групп операций и последующему группированию групп Пиаже сумел выделить разные стадии в развитии ребенка и предсказать, какие операции школьники того или иного возраста могут или не могут осуществить.
Наконец, имеется понятие опосредования. Операции называются непосредственными, когда их объекты имеются в наличии. Так, ви́дение будет непосредственным по отношению к видимому, слышание – по отношению к слышимому, осязание – по отношению к осязаемому. Но через воображение, язык, символы мы действуем составным способом: непосредственно – по отношению к образу, слову, символу, и опосредованно – по отношению к тому, что репрезентируется или обозначается. Так мы получаем возможность совершать операции не только с наличным и актуальным, но и с отсутствующим, прошлым, будущим, а также с чисто возможным, идеальным, нормативным или фантастическим. Когда ребенок учится говорить, он продвигается из мира своего непосредственного окружения к гораздо более обширному миру, явленному через память других людей, через здравый смысл сообщества, через страницы литературы, через труды эрудитов, через исследования естествоиспытателей, через опыт святых, через размышления философов и богословов.
Это различение между непосредственными и опосредованными операциями имеет весьма широкое применение. Оно противопоставляет непосредственный мир маленького ребенка гораздо более обширному миру, опосредованному смыслом. Далее, оно предоставляет основу для различения между низшими и высшими культурами. Низшая культура соотносится с миром, опосредованным смыслом, но в ней отсутствует контроль над смыслом, и она потворствует магии и мифу. Высшая культура развивает техники рефлексии, которая производит операции над самими опосредованными операциями в усилии сохранить смысл. Так, алфавит заменяет устные знаки визуальными, словари фиксируют значения слов, грамматики контролируют правила словоизменения и сочетаемости, логика способствует ясности, связности и строгости дискурса, герменевтика изучает изменчивые отношения между значением и означаемым, философия в ее разных видах исследует наиболее глубокие различия между мирами, опосредованными смыслом. Наконец, среди высоких культур можно провести различение между культурой классической и современной, в зависимости от общего типа осуществляемого ими контроля: в понимании классической культуры, контроль есть универсалия, установленная на все времена; в понимании современной культуры, способы контроля сами вовлечены в длящийся процесс.
Различным ступеням развития и различным мирам, опосредованным смыслом, соответствуют сходные различия в дифференциации сознания. Только в ходе развития субъект осознает сам себя и свое отличие от собственного мира. Так как его постижение своего мира и его поведение развиваются, он начинает продвигаться через различные паттерны опыта. Когда маленькие дети подражают или играют, они живут в мире, опосредованном их собственными смыслами: не «на самом деле», а понарошку. Когда дети старшего возраста переходят от мира, опосредованного смыслом, к рефлективным техникам, в рамках которых они производят операции над опосредующими операциями, они продвигаются от «реальной» жизни к миру теории, или, как многие говорят, к миру абстракции, который, несмотря на его разреженную атмосферу, обладает таинственной значимостью для успешной деятельности в «реальном» мире. Когда дети слушают музыку, смотрят на дерево или пейзаж, когда они поражены красотой чего бы то ни было, они высвобождают собственную восприимчивость из рутинного хода развития и позволяют развитию следовать более свежим и глубоким ритмам постижения и чувствования. Наконец, когда мистик удаляется в ultima solitudo [последнее уединение], он сбрасывает с себя конструкты культуры и всю запутанную массу опосредующих операций, чтобы вернуться к новой, опосредованной непосредственности своей субъективности, устремленной к Богу[10].
Таким образом, значение анализа, проведенного Пиаже, выходит далеко за рамки возрастной психологии. Этот анализ позволяет провести различение между стадиями в культурном развитии и описать, каким образом человек выходит из-под его контроля в игре, в любовном экстазе, в эстетическом переживании, в созерцательной молитве. Более того, любая техническая сноровка может быть подвергнута анализу как группа дифференцированных операций, объединенных в комбинации. Это не даст нам определения того, каким образом концертирующий пианист интерпретирует сонату, но скажет нам о том, в чем заключаются его технические навыки. Это не раскроет нам великого замысла «Суммы против язычников» Фомы Аквинского; но, если мы прочитаем несколько глав подряд, мы обнаружим они и те же аргументы, повторяющиеся вновь и вновь в слегка варьируемой форме. По мере чтения «Суммы против язычников» операции дифференцируются и сопрягаются в неизменно свежих комбинациях. Наконец, подобно тому, как существует техническая сноровка индивида, существует и техническая сноровка команды: игроков, артистов, квалифицированных рабочих; их можно обучить новым операциям, а тренер, импрессарио или предприниматель может объединять людей в новые комбинации ради новых целей.
2. Чувства
От операционального развития отличается развитие чувствований. В этом вопросе я опираюсь на Дитриха фон Гильдебранда и отличаю не-интенциональные состояния и стремления от интенциональных ответов. Примерами не-интенциональных состояний могут служить такие состояния, как усталость, раздражительность, подавленность, тревога; примерами не-интенциональных стремлений – такие стремления или потребности, как голод, жажда, сексуальный дискомфорт. У состояний есть причины, у стремлений есть цели, но отношение чувствования к причине или цели – это просто отношение следствия к причине или стремления к цели. Само чувствование не предполагает и не исходит из восприятия, воображения, представления причины или цели. Скорее человек сначала чувствует себя усталым, а лишь затем, возможно, понимает, что ему нужен отдых. Или сначала человек ощущает голод, а потом осознает, что его состояние вызвано недостатком пищи.
Напротив, интенциональные ответы отвечают на то, что является объектом интендирования, схватывания, представления. Чувствование связывает нас не просто с причиной или конечной целью, но с объектом. Такие чувства придают интенциональному сознанию плотность, напористость, энергию, мощь. Без таких чувств познание и принятие решений были бы хрупкими, как бумага. Благодаря нашим чувствам – нашим желаниям и опасениям, надеждам и отчаяниям, радостям и печалям, восторгам и возмущениям, уважению и презрению, доверию и недоверию, любви и ненависти, нежности и грубости, нашему восхищению, почитанию, благоговению или страху, ужасу, трепету, – мы решительно и динамично обращены к миру, опосредованному смыслом. Мы испытываем чувства по отношению к другим людям, мы нечто чувствуем к ним и вместе с ними. Мы испытываем чувства по отношению к своим жизненным ситуациям, к прошлому и будущему, ко злу, о котором следует сожалеть или которое следует исправить, и добру, которое может, должно, обязано совершиться[11].
Чувства, которые представляют собой интенциональные ответы, затрагивают два класса объектов: с одной стороны, это приятное или неприятное, удовлетворяющее или неудовлетворяющее; с другой стороны, это ценности, будь то онтическая ценность личности или качественная ценность красоты, понимания, истины, добродетельного поступка, долга чести. Говоря обобщенно, ответ на ценности ориентирует нас на самотрансцендирование и в то же время осуществляет выбор объекта: того или чего, ради кого или чего мы превосходим самих себя. Напротив, ответ на приятное или неприятное двойствен. Приятное вполне может быть неким истинным благом; но случается и так, что истинное благо оказывается неприятным. Большинство хороших людей согласится принять тяжелую работу, лишения, страдания, причем их добродетель позволит им поступить так без чрезмерных эгоцентричных сожалений[12].
Чувства не просто реагируют на ценности: они реагируют на них в соответствии с некоторой шкалой предпочтений. Так, мы можем различить витальные, социальные, культурные, личные и религиозные ценности, расположив их в восходящем порядке. Витальные ценности – например, здоровье и сила, ловкость и подтянутость – обычно ставятся выше труда, самоограничения, усилия, необходимых для того, чтобы их приобрести и поддерживать или восстановить. Социальные ценности, такие, как общественный порядок, обеспечивающий всему сообществу возможность витальных ценностей, следует предпочесть витальным ценностям индивидов, принадлежащих к этому сообществу. Культурные ценности не существуют без опоры на ценности витальные и социальные, но, тем не менее, ставятся выше. Не хлебом единым жив человек. Помимо и сверх того, чтобы просто жить и действовать, люди должны обрести смысл и ценность в своей жизни и своем действовании. Дело культуры – обнаруживать, выражать, взвешивать, оценивать, корректировать, развивать, улучшать этот смысл и эту ценность. Личные ценности – это личность в ее самотрансцендировании, личность как любящая и любимая, как порождающая ценности в себе и в своем окружении, как вдохновение и побуждение к подражанию, обращенное к другим. Наконец, религиозные ценности составляют самую сердцевину смысла и ценности человеческой жизни и человеческого мира. Но к этой теме мы вернемся в главе четвертой.
Так же, как и умения, чувства способны развиваться. Конечно, это верно, что по своему существу чувства спонтанны. Они не подвластны волевым приказам так, как подвластны им движения наших рук. Но когда чувства уже возникли, их можно подкрепить признанием и сосредоточенностью на них, а можно пресечь неодобрением и отвлечением от них. Такое подкрепление или пресечение не только поощрит одни чувства и подавит другие, но и внесет коррективы в спонтанную шкалу личностных предпочтений. Кроме того, чувства приобретают богатство и утонченность благодаря пристальному изучению многих и разнообразных предметов, их вызывающих. Например, образование в значительной мере заключается в том, чтобы создать атмосферу, которая способствовала бы развитию тонкости восприятия и вкуса, сочетанию разборчивого поощрения и деликатной критики; атмосферу, которая стимулировала бы собственные способности и стремления ученика или студента, расширяла и углубляла бы его понятие о ценностях и помогала бы ему в деле самотрансцендирования.
До сих пор я говорил о чувствах как об интенциональных ответах; но следует добавить, что чувства не мимолетны, не ограничены временем, в течение которого мы схватываем некоторую ценность или ее противоположность, и не исчезают в момент, когда наше внимание смещается от них в сторону. Разумеется, есть чувства, которые легко возникают и легко проходят. Есть также чувства, которые подверглись подавлению и вытеснению, чтобы далее влачить жалкое подпольное существование. Но есть и такие чувства, которые вполне осознанны и настолько глубоки и сильны, особенно если их намеренно подкреплять, что они фокусируют наше внимание, формируют наш горизонт, направляют нашу жизнь. Наивысший пример – переживание любви. Влюбленные мужчина или женщина живут любовью не только до тех пор, пока ожидают ответной любви, но постоянно. Помимо особых актов любви, существует прежде данное состояние пребывания в любви, это прежде данное состояние оказывается как бы источником всех действий человека. Так взаимная любовь сплетает две жизни в одну. Она претворяет «я» и «ты» в «мы» – настолько глубоко, надежно, прочно, что каждый надеется, мечтает, раздумывает, строит планы, чувствует, говорит, действует, не отделяя себя от другого.
Чувства могут не только развиваться, но и подвергаться аберрациям. Быть может, самой заметной их них является та, которая получила название «ресентимент». Это слово, заимствованное из французского языка, было введено в философию Фридрихом Ницще, а позднее, в ином виде, использовано Максом Шелером[13]. Согласно Шелеру, ресентимент – это пере-живание человеком некоторого специфического столкновения с ценностными качествами кого-то другого. Этот другой выше него физически, интеллектуально, нравственно или духовно. Такое пере-живание не является активным или агрессивным, но тянется на протяжении долгого времени, иногда на протяжении всей жизни. Это чувство враждебности, злобы, возмущения, которое ни отвергается, ни выражается прямо. Оно обращено против такого ценностного качества, которым обладает высшая личность и которым низшая личность не только не обладает, но и чувствует себя не способной его приобрести. Это неприятие выражается в постоянном принижении ценности, о которой идет речь; более того, оно может обратиться в ненависть и даже насилие по отношению к тому, кто обладает этим ценностным качеством. Но худшая черта ресентимента, пожалуй, – в том, что отвержение одной ценности влечет за собой искажение всей шкалы ценностей, и это искажение может получить распространение в целом социальном классе, в целом народе, в целой эпохе. Поэтому анализ ресентимента может оказаться орудием этической, социальной и исторической критики. Вообще говоря, гораздо лучше дать себе полный отчет в своих чувствах, сколь бы прискорбным он ни был, чем отбрасывать их, закрывать на них глаза, игнорировать. Осознание собственных чувств позволяет человеку узнать себя, обнаружить свою невнимательность, недалекость, простоватость, безответственность (коими питаются те чувства, которых человек не хочет испытывать), и устранить аберрацию. С другой стороны, не отдавать себе в них отчета означает оставить их в сумраке того, что сознательно, но не объективировано[14]. В итоге здесь возникает конфликт между самостью как сознательным и самостью как объективированным. Такое самоотчуждение ведет к принятию ошибочных мер, а они, в свою очередь, – к дальнейшим ошибкам, пока в отчаянии невротик не обратится к психоаналитику или психиатру[15].
3. Идея ценности
Ценность есть трансцендентальная идея. Ценность – то, что интендируется в вопросах, требующих размышления, точно так же, как интеллигибельное – то, что интендируется в вопросах, требующих интеллекта, а истина и бытие – то, что интендируется в вопросах, требующих рефлексии. Такое интендирование не есть знание. Когда я спрашиваю, «что», или «почему», или «как», или «зачем», я не знаю ответов, но я уже интендирую то, что́ знал бы, если бы знал ответы. Когда я спрашивают, таково ли это и таково ли то, я еще не знаю, таково это или нет, но я уже интендирую то, что было бы известно, если бы я знал ответы. Так что когда я спрашиваю, истинное ли это или только кажущееся благо, имеет оно ценность или нет, я еще не знаю ценности, но я интендирую ценность.
Трансцендентальные идеи представляют собой динамизм сознательной интенциональности. Они ведут субъекта от низшего уровня сознания к высшему, от опытного – к интеллектуальному, от интеллектуального – к рациональному, от рационального – к экзистенциальному. И по отношению к объектам они опять-таки занимают промежуточное положение между незнанием и знанием. В самом деле, они соотносятся с объектами непосредственно и прямо, тогда как ответы соотносятся с объектами лишь опосредованно, лишь потому, что являются ответами на вопросы, в которых интендируются объекты.
Трансцендентальные идеи не только ведут субъекта к полному сознаванию и направляют его к цели. Они также предоставляют ему критерии, показывающие, достигнуты ли эти цели. Порыв к пониманию удовлетворяется, когда понимание достигнуто, но не удовлетворяется никаким неполным достижением, а потому служит источником дальнейших вопросов. Порыв к истине побуждает рациональность успокоиться, когда обретена достаточная очевидность, но отказывается успокоиться и сомневается всякий раз, когда очевидность не достаточна[16]. Порыв к ценности воздает за успех в самотрансцендировании ощущением чистой совести, а за внезапные провалы – угрызениями совести.
Самотрансцендирование – это достижение сознательной интенциональности, а так как у нее много частей и долгий путь развития, то это же относится и к самотрансцендированию. Первый шаг – внимательность к данным чувств и сознания. На втором шаге вопрошание и понимание приводят к постижению гипотетического мира, опосредованного смыслом. На третьем шаге рефлексия и суждение достигают абсолютного: благодаря им мы узнаем, что́ действительно реально, что́ не зависимо от нас и нашего мышления. На четвертом шаге, путем обдумывания, оценки, решения и действования, мы обретаем способность узнавать и делать не только то, что доставляет нам удовольствие, но и то, что на самом деле хорошо, что этого стоит. Тогда мы можем быть источником благих волений и благих деяний, способными к настоящему сотрудничеству и к подлинной любви. Но одно дело – поступать так время от времени, урывками, и другое дело – поступать так регулярно, легко, спонтанно. Наконец, только достигая существенного самотрансцендирования, свойственного добродетельной личности, человек становится хорошим судьей не того или иного человеческого действия, а всего спектра человеческого блага[17].
Наконец, хотя трансцендентальные идеи шире, чем любая категория, было бы ошибкой сделать отсюда вывод, что они более абстрактны. Напротив, они предельно конкретны. Ведь конкретное – это реальное, взятое не в том или ином аспекте, а во всех его аспектах и в любой момент. Но трансцендентальные идеи служат источником не только первоначальных вопросов, но и последующих ответов. Более того, хотя дальнейшие вопросы возникают лишь по очереди, они все же продолжают возникать. Есть и более отдаленные вопросы, толкающие интеллект к более полному пониманию, и более отдаленные сомнения, заставляющие нас искать более полной истины. Единственный предел в этом процессе – это пункт, в котором уже не возникает дальнейших вопросов, и этот пункт достигается лишь тогда, когда мы верно понимаем всё обо всем, когда мы узнали реальность в любом ее аспекте и в любой момент.
Сходным образом и благое никогда не означает некоей абстракции. Только конкретное является благим. Опять-таки, подобно тому, как трансцендентальные идеи интеллигибельного, истинного, реального ведут к полной интеллигибельности, к полной истине, к реальному в любой его части и любом аспекте, так трансцендентальная идея благого ведет к безупречному благу. Ибо что означает эта идея? Это наши вопросы, которые возникают и требуют обдумывания. Это наше разочарование, в котором мы останавливаемся и спрашиваем себя, стоит ли делать то, что мы делаем. Такое разочарование высвечивает ограниченность любого конечного достижения, изъян в любом совершенстве, иронию контраста между амбициозностью замыслов и неуклюжестью исполнения. Эта идея открывает нам высоты и глубины любви, и она же не дает нам забыть о том, как далека наша любовь от своей цели. Коротко говоря, трансцендентальная идея блага зовет нас, теснит, торопит, так что мы могли бы обрести покой только во встрече с таким благом, которое безусловно выше любой критики.


