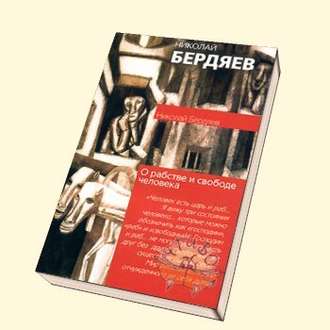
Николай Бердяев
Сборник статей Н. Бердяева
В мире происходит небывалая концентрация, объединение и организация антихристианских сил. Эти силы необыкновенно активны. И христианство, разделенное на части, на враждующие между собой конфессии, бессильно перед лицом антихристианской опасности, перед возрастающей дехристианизацией мира. Контраст объединенности, организованности и активности антихристианских сил и разделенности, дезорганизации и пассивности христианских сил не может не мучить христианскую совесть. Перед лицом могущественного врага, потребность христианского единства не может не быть сознана. Христиане сами во многом виноваты, христиане, а не христианство. Христиане сами должны были во имя Христа делать то положительное социальное и культурное дело, которое часто делали враги христианства. Они его не делали, или делали со страшным опозданием, или, что еще хуже, осуждали делающих. Почему христианские силы менее активны, чем силы антихристианские, вполне понятно, это объяснимо из самого христианского вероучения и мировоззрения. Христианство признает свободу человеческого духа и силу греха. Оно не может верить в разрешимость всех вопросов жизни внешней и принудительной организацией, в которую верит коммунизм. Именно христианская свобода затрудняет реализацию христианства в жизни. Это основной парадокс христианства. Материалистом легче быть, чем христианином. От христианина требуется несоизмеримо больше, а обычно исполняет он меньше. Но бывают эпохи, когда христианские души пробуждаются, когда активность делается неизбежной, вялость и инерция душ побеждаются. Мы вступаем в такую эпоху. Ответственность безмерно возросла. Мы не живем уже в уютном и спокойном христианском быту. Мы призваны к творческим усилиям. Экуменическое движение есть симптом пробуждения христианского мира, пока еще слабый. Но внутри всех конфессий и всех исторических церквей пробуждается это беспокойство и волнение. Все чаще и чаще происходят переходы за пределы замкнутой конфессии. Переходы из одной конфессии в другую носят чисто личный характер и они не решают экуменической проблемы, обыкновенно даже не ставят ее. Но люди, остающиеся верными своей конфессии, заболевают жаждой вселенского единства и полноты. Более углубленное и духовное понимание христианства должно ослабить конфессиональный фанатизм и самодовольство, оно переводит в иной план, чем тот, в котором разыгралась борьба разделенных и враждующих частей христианского мира. Необходимо решительно противоположить «мистику» «политике» в церкви, употребляя эти слова в том смысле, в каком их употребляет Шарль Пеги. Вся мучительность христианской истории определилась сращенностью церкви с «политикой». В раздоре и вражде огромное место занимала именно политика, которую можно вскрыть за всеми историческими религиозными преследованиями. И сейчас еще политический момент играет преобладающую роль в религиозной вражде, он вносится в догматические споры. Возрождение христианской духовности должно ослабить роли политического элемента в церкви. И этим должна раскрыться возможность нового и одухотворенного социального творчества в христианстве. Мы вступаем в совершенно новую эпоху и совсем по-новому должны ставиться проблемы единства и вселенскости. В старых постановках этой проблемы еще чувствовался партикуляризм и провинциализм исторической жизни церкви. Мы живем в революционную эпоху, и все исторические границы, казавшиеся вечными, сметаются. Вселенское христианство может быть актуализировано лишь при остром эсхатологическом чувстве жизни.
Христиане думают, что их разделяет божественная истина. В действительности же разделяет их именно человеческое, человеческая душевная структура, различия в опыте и чувстве жизни в интеллектуальном типе. Объективируя свои собственные состояния, люди думают, что они борются за абсолютную истину. Но когда мы приходим к подлинным религиозным первореальностям, когда в нас раскрывается подлинный духовный опыт, мы приближаемся друг к другу и соединяемся во Христе. Православные имеют иное учение об искуплении, чем протестанты, и можно бесконечно спорить о том, чье учение более правильно. Но само искупление одно и то же, сама религиозная реальность едина. Православные имеют иное учение о почитании Божьей Матери, чем католики: они не приемлют догмата непорочного зачатия. Споры о догмате непорочного зачатия вызывают разделение и вражду. Но самый культ Божьей Матери, самый религиозный опыт один и тот же у православных и у католиков. Христианское сближение не следует ставить ни на почву схоластически-доктринальную, ни на почву канонически-правовую. Именно на этой почве произошли разделение и раздор. Сближение прежде всего нужно ставить на почву духовно-религиозную, внутреннюю. Внешнее от внутреннего пойдет, церковное единство от духовного единения христиан, от христианской дружбы. Объединяет прежде всего вера в Христа и жизнь во Христе, искание Царства Божьего, т. е. самая сущность христианства. Ищите прежде всего Царства Божьего, и все остальное приложится вам. Объединяться можно на самом искании Царства Божьего, а не на том остальном, что прилагается. Но в греховном христианском человечестве то, что прилагается, заслонило собой самое Царство Божие, и оно-то разрывает на части христианский мир. Идея Царства Божия в христианстве глубже, чем идея церкви, которая есть исторический путь к Царству Божьему. Идея Царства Божьего эсхатологична и профетична. На ней и должно быть построено единение. Это не минимум, а максимум, не абстракция, а конкретность. Перспектива достижения абсолютной полноты и абсолютного единства есть перспектива эсхатологическая, есть исполнение времен. Но исполнение времен совершается во времени еще.
Экуменическое движение означает изменение внутри христианского мира, возникновение нового христианского сознания. Православие может быть благоприятной почвой для экуменического движения и вступление православных в это движение может иметь огромное значение. Мир православный не участвовал в страшной исторической борьбе протестантов и католиков. Опыт интерконфессиональных собраний в Париже показал, что протестанты и католики легче встречаются на православной почве. Есть два понимания вселенскости – горизонтальное и вертикальное. Для горизонтального понимания вселенское единство означает охватывание как можно больших пространств земли, универсальную организацию всей поверхности земли. К этому пониманию склоняется католичество. Для вертикального понимания вселенскость есть измерение глубины, вселенскость может быть дана как качество каждой епархии. Это есть понимание православное. Оно более благоприятно для экуменического движения. Католики примут активное участие в этом движении в том лишь случае, если они откажутся от империализма в понимании вселенского единства христианства, если победят в себе империалистическую волю как соблазн и увидят вокруг себя не объекты воздействия, а субъекты. Это, может быть, самый важный вопрос в движении к единству. Без участия католиков движение не может быть полным по своим результатам. У протестантов есть другой соблазн, соблазн слишком большой легкости в достижении единства и вселенскости. Соблазн же православный есть соблазн изолированного и самодовлеющего бытия, безразлично к тому, что происходит с миром. У каждого есть свои соблазны. Почва для соединения может уготовляться человеческой активностью и направлением человеческой воли. И мы все для этого должны сделать. Но не человеческими силами совершится соединение, оно окончательно совершится действием Духа Святого, когда час для этого настанет. И во всяком случае, движение к этому центральному событию в судьбах христианства означает вступление в новую эпоху, когда излияние Духа Святого будет сильнее, чем было до сих пор.
Из сборника “Христианское воссоединение”, Париж, YMCA-PRESS, 1933
Спасение и творчество
(Два понимания христианства)
Посвящается памяти Владимира Соловьева
Служите друг другу, каждый тем даром,
какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией.
(1 Петр. 4:10) I.
I
Взаимоотношение между путями человеческого спасения и путями человеческого творчества есть самая центральная, самая мучительная и самая острая проблема нашей эпохи. Человек погибает, и у него есть жажда спасения. Но человек есть также по природе своей творец, созидатель, строитель жизни, и жажда творчества не может в нем угаснуть. Может ли человек спасаться и в то же время творить, может ли творить и в то же время спасаться? И как понимать христианство: есть ли христианство исключительно религия спасения души для вечной жизни или также творчество высшей жизни оправдано христианским сознанием? Все эти вопросы мучат современную душу, хотя и не всегда сознается вся глубина их. Желая оправдать свое жизненное призвание, свое творческое жизненное дело, христиане не всегда сознают, что речь идет о самом понимании христианства, об усвоении его полноты. Мучительность проблемы спасения и творчества отражают расколы между Церковью и миром, духовным и мирским, сакральным и светским. Церковь занята спасением, творчеством же занят светский мир. Творческие дела, которыми занят мир светский, не оправданы, не освящены Церковью. Есть глубокое пренебрежение, почти презрение церковного мира к тем творческим делам в жизни культуры, в жизни общества, которыми полно движение, происходящее в мире. В лучшем случае творчество допускается, попускается, на него смотрят сквозь пальцы, не давая ему глубокого оправдания. Спасение есть дело первого сорта, единое на потребу, творчество же есть дело второго и третьего сорта, приложение к жизни, а не самое существо ее. Мы живем под знаком глубочайшего религиозного дуализма. Иерократизм, клерикализм в понимании Церкви есть выражение и оправдание этого дуализма. Церковная иерархия в существе своем есть иерархия ангельская, а не человеческая. В мире человеческом лишь символизуется небесная, ангельская иерархия. Система иерократизма, исключительное господство священства в жизни Церкви, а через Церковь и в жизни мира, есть подавление человеческого начала ангельским, подчинение человеческого начала ангельскому началу, как призванному водительствовать жизнью. Она всегда есть господство условного символизма. Но подавление человеческого начала, недопущение его своеобразного творческого выражения, есть ущербление христианства как религии Богочеловечества. Христос был Богочеловеком, а не Богоангелом, в Нем в совершенстве соединилась в одном лице Божественная природа с природой человеческой, и этим человеческая природа вознесена до жизни божественной. И Христос-Богочеловек был основоположником нового духовного рода человеческого, жизни Богочеловечества, а не Богоангельства. Церковь Христова есть Богочеловечество. Ангельское начало есть начало, посредствующее между Богом и человечеством, начало пассивно-медиумическое, передающее Божью энергию, проводник Божьей благодати, а не начало активно-творческое. Начало активно-творческое предоставлено человечеству. Но греховная ограниченность человечества не вмещает полноты христианской истины. И подавляющее господство ангельско-иерократического начала есть показатель бессилия греховного человечества выразить свою творческую природу, понять христианство в полноте и всецелости. Путь спасения для греховного человечества нуждается прежде всего в ангельско-иерократическом начале. Путь же творчества остался самочинным человеческим путем, не освященным и неоправданным, и в нем человек предоставлен себе.
Религиозная невыраженность человеческого начала как органической части жизни Богочеловечества, религиозная нераскрытость свободного призвания человека создает дуализм Церкви и мира. Церкви и культуры, резкий дуализм сакрального и светского. Для верующего христианина создается две жизни, жизнь первого и второго сорта. И этот дуализм, эта двойственность жизни достигает особенной остроты в христианстве Нового времени. В христианстве средневековом была своя теократическая, иерократическая культура, в которой все творчество жизни было самоподчинено религиозному началу, понятому как господство ангельской иерархии над человеческой. В средневековье культура и общество были сакральны, но религиозное оправдание было условно-символическим. Культура по идее своей была ангельской, а не человеческой. Господство ангельского начала всегда ведет к символизму, к условному, знаковому отображению в человеческом мире небесной жизни без реального ее достижения, без реального преображения человеческой жизни. Новое время низвергло символику и совершило разрыв. Человек восстал во имя своей свободы и пошел своим самочинным путем. Для религии остался уголок души. Церковь начали понимать дифференциально. Христианин Нового времени живет в двух перебивающихся ритмах – в Церкви и в мире, в путях спасения и в путях творчества. В теократических обществах, в теократических культурах человеческое начало было подавлено, свобода человека не дала еще своего согласия на осуществление Царства Божьего. В гуманистических обществах и культурах Нового времени человеческое начало оторвалось от Бога и, от действия Божьей благодати. Соединение Божества и человечества не достигалось. Пути творчества мира гуманистического были без Бога и против Бога. Драма новой гуманистической истории есть драма глубокой оторванности путей творчества жизни от путей спасения, от Бога и Божьей благодати. Дуализм Церкви и мира достигает таких форм выражения, которых не знали прежние сакральные органические эпохи. В мире происходило огромное творческое движение в науке, в философии, в искусстве, в государственной и социальной жизни, в завоеваниях техники, в моральных отношениях людей, даже в религиозной мысли, в мистических настроениях. Все мы, не только неверующие, но и верующие христиане, участвуем в этом движении мира, движении культуры, отдаем ему значительную часть своего времени и сил. По воскресеньям мы ходим в Церковь. Шесть дней в неделю мы отдаем нашему творческому, созидательному труду. И наше творческое отношение к жизни остается неоправданным, неосвященным, не соподчиненным религиозному началу жизни. Старое, средневековое теократически-иерократическое оправдание и освящение всего процесса жизни уже не имеет над нами силы, омертвело. Самые верующие, самые православные люди участвуют в неоправданной и неосвященной жизни мира, подчиняют себя светской, не сакральной науке, светскому, не сакральному хозяйству, светскому, не сакральному праву, быту, давно уже потерявшему сакральный характер. Верующие, православные люди живут церковной жизнью в Церкви, ходят по воскресным и праздничным дням в храм, говеют в великий пост, молятся Богу утром и вечером, но не живут церковной жизнью в мире, в культуре, в обществе. Творчество их, в жизни государственной и хозяйственной, в науках и искусствах, в изобретениях и открытиях, в повседневной морали остается внецерковным, внерелигиозным, светским, мирским. Это совсем другой ритм жизни. Бурное творческое движение происходило в мире, в культуре. В Церкви же на долгое время наступила сравнительная бездвижность, как бы окаменение и окостенение. Церковь начала жить исключительно охранением, связью с прошлым, т. е. выражала лишь одну сторону церковной жизни. Церковная иерархия стала враждебна к творчеству, подозрительна к духовной культуре, принижает человека и боится его свободы, противополагает путям творчества пути спасения. Мы спасаемся в одном плане бытия и творим жизнь в совсем другом плане бытия. И всегда остается опасение, что в том плане, в котором мы творим, мы погибаем, а не спасаемся. И нет никакой надежды на то, что непереносимый далее дуализм может быть преодолен через подчинение всей нашей жизни и всех творческих порывов началу иерократическому, через возвращение к теократии в старом смысле слова. К условному символизму иерократических обществ и культур нет возврата. Это могло бы быть лишь временной реакцией, отвергающей творчество. Во всей остроте поставлена религиозная проблема о человеке, о его свободе и творческом признании. И это есть не только проблема мира, проблема, выношенная и вымученная в современной культуре, это есть также проблема Церкви, проблема христианства как религии Богочеловечества.
Церковь перестали понимать интегрально, как вселенский духовный организм, как онтологическую реальность, как охристовленный космос. Победило дифференциальное понимание Церкви как учреждения, как общества верующих, как иерархии и храма. Церковь превратилась в лечебное заведение, в которое поступают отдельные души на излечение. Так утверждается христианский индивидуализм, равнодушный к судьбе человеческого общества и мира. Церковь существует для спасения отдельных душ, но не интересуется творчеством жизни, преображением жизни общественной и космической. Такого рода исключительно монашески-аскетическое Православие в России возможно было лишь потому, что Церковь возложила все строительство жизни на государство. Лишь существование Церковью освященной самодержавной монархии делало возможным такой православный индивидуализм, такую отделенность христианства от жизни мира. Мир держала и охраняла православная монархия, ею держался и церковный строй. Церковь была равнодушна не только к строительству жизни культурной и общественной, но и к строительству жизни церковной, к жизни приходов, к организации независимой церковной власти. Существование православной самодержавной монархии есть обратная сторона монашески-аскетического Православия, понимающего Православие исключительно как религию личного спасения. И потому падение самодержавной монархии, русского православного царства, вносит существенные изменения в церковное сознание. Православие не может оставаться по преимуществу монашески-аскетическим. Христианство не может сводиться к индивидуальному спасению отдельных душ. Церковь неизбежно обращается к жизни общества и мира, неизбежно должна участвовать в строительстве жизни. В самодержавной монархии, как типе православной теократии, господствовало ангельское, а не человеческое начало. Царь, согласно этой концепции, есть, в сущности, ангельский, а не человеческий чин. Падение православной теократии должно вести к пробуждению творческой активности самого христианского народа, активности человеческой, к строительству христианского общества. Этот поворот начинается прежде всего с того, что православные люди делаются ответственными за судьбу Церкви в мире, в исторической действительности, что они на себя принуждены возложить строительство церковное, жизнь приходов, заботы о храме, организацию церковной жизни, братств и т. п. Но это изменение православной психологии не может ограничиться строительством церковной жизни, оно распространяется и на все стороны жизни. Вся жизнь может быть понята как жизнь церковная. В Церковь входят все стороны жизни Неизбежен поворот к интегральному пониманию Церкви, т. е. к преодолению церковного номинализма и индивидуализма. Понимание христианства исключительно как религии личного спасения, сужение объема Церкви до чего-то существующего наряду со всем остальным, в то время как Церковь есть положительная полнота бытия, и было источником величайших расстройств и катастроф в христианском мире. Принижение человека, его свободы и его творческого призвания, порожденное таким пониманием христианства, и вызвало восстание и бунт человека во имя своей свободы и своего творчества. На пустом месте, которое оставлено в мире христианством, начал строить антихрист свою вавилонскую башню и далеко зашел в своем строительстве. Манившая свобода человеческого духа, свобода человеческого творчества на этом пути окончательно погибает. Церковь должна была охранять себя от злых стихий мира и злых в нем движений. Но подлинное охранение святыни возможно лишь при допущении христианского творчества.
II
На какой духовной основе базируется православный индивидуализм, чем оправдывается понимание христианства как религии личного спасения, равнодушной к судьбе общества и мира? Христианство в прошлом необычайно богато, многообразно и многосторонне. В Евангелии, в апостольских посланиях, в святоотеческой литературе и в церковном предании можно найти основание для разнообразных пониманий христианства. Понимание христианства как религии личного спасения, подозрительной ко всякому творчеству, опирается исключительно на аскетическую святоотеческую литературу, которая не есть все христианство и не есть вся святоотеческая литература. «Добротолюбие» как бы заслонило собой все остальное. В аскетике выражена вечная истина, которая входит во внутренний духовный путь как неизбежный момент. Но она не есть полнота христианской истины. Героическая борьба с природой ветхого Адама, с греховными страстями выдвинула известную сторону христианской истины и преувеличила ее до всепоглощающих размеров. Истины, раскрывавшиеся в Евангелии и в апостольских посланиях, были отодвинуты на второй план, подавлены. В основу всего христианства, в основу всего духовного пути человека, пути спасения для вечной жизни, было положено смирение. Человек должен смиряться, все же остальное приложится само собой. Смирение заслоняет и подавляет любовь, которая открывается в Евангелии и является основой Нового Завета Бога с человеком. Онтологический смысл смирения заключается в реальной победе над самоутверждающейся человеческой самостью, над греховной склонностью человека полагать центр тяжести жизни и источник жизни в себе самом, – смысл этот в преодолении гордыни. Смысл смирения в реальном изменении и преображении человеческой природы, в господстве духовного человека над душевным и плотским человеком. Но смирение не должно подавлять и угашать дух. Смирение не есть внешнее послушание, покорность и подчинение. Человек может быть очень дисциплинирован, очень послушен и покорен и не иметь никакого смирения. Мы это видим, например, в коммунистической партии. Смирение есть действительное изменение пуховной природы, а не внешнее подчинение, оставляющее природу неизменной, внутренняя работа над самим собой, освобождение себя от власти страстей, от низшей природы, которую человек принимает за свое истинное «я». В смирении утверждается истинная иерархия бытия, духовный человек получает преобладание над душевным человеком. Бог получает преобладание над миром. Смирение есть путь самоочищения и самоопределения. Смирение есть не уничтожение человеческой воли, а просветление человеческой воли, свободное подчинение ее Истине. Христианство не может отрицать смирения как момента внутреннего духовного пути. Но смирение не есть цель духовной жизни. Смирение есть подчиненное средство. И смирение не есть единственное средство, не есть единственный путь духовной жизни. Внутренняя духовная жизнь безмерно сложнее и многограннее. И нельзя отвечать на все запросы духа проповедью смирения. И смирение может пониматься ложно и слишком внешне. Внутренней духовной жизни и внутреннему пути принадлежит абсолютный примат, она первичнее, глубже, изначальнее всего нашего отношения к жизни общества и мира. В духовном мире, из глубины духовного мира определяется все наше отношение к жизни. Это – аксиома религии, аксиома мистики. Но возможно понимание смирения, извращающее всю нашу духовную жизнь, не вмещающее Божественной истины христианства, Божественной полноты. И в этом вся сложность вопроса.
Построение жизни на одном духе смирения и создает внешнюю авторитарно-иерократическую систему. Все вопросы общественного устроения и культурного созидания решаются в применении к смирению. Хорош тот строй общества, в котором люди наиболее смиряются, наиболее послушны. Осуждается всякий строй жизни, в котором дано выражение творческим инстинктам человека. Так не решается ни один вопрос по существу, а лишь в отношении к тому, способствует ли это смирению человек". Вырождение смирения ведет к тому, что оно перестает пониматься внутренне, сокровенно, как мистический акт, как явление внутренней духовной жизни. Смирение в мистической своей сущности совсем не противоположно свободе, оно есть акт свободы и предполагает свободу. Только свободное смирение, свободное подчинение душевного человека человеку духовному имеет религиозное значение и ценность. Принудительное смирение, навязанное, определяющееся внешним строем жизни, не имеет никакого значения для духовной жизни. Рабство и смирение – разные духовные состояния. Смиряюсь я сам в своем внутреннем духовном пути, в свободном акте полагаю в Боге, а не в своей самости источник жизни. Для феноменологического анализа раскрывается, что моя свобода предшествует моему смирению. Смирение есть внутреннее, сокровенное духовное состояние. Но выродившееся, деградировавшее смирение, смирение упадочное превращается во внешне навязанную, принудительную систему жизни, отрицающую свободу человека, принижающую человека. На почве смирения легко рождается лицемерие и ханжество. В то время как онтологический смысл смирения заключается в освобождении духовного человека, упадочное смирение держит человека в состоянии подавленности и угнетенности, сковывает его творческие силы. Великие подвижники и святые совершали героический акт духовного освобождения человека, противления низшей природе, власти страстей. Упадочники смирения отрицают героический акт духовного освобождения человека и держат человека в подчинении авторитарной системе жизни. Когда я смиряюсь перед волей Божией, когда я побеждаю в себе рабий бунт самости, я иду от свободы и иду к свободе. Самость порабощает меня, и я хочу освободиться от нее. Смирение есть один из методов перехода от состояния, в котором господствует низшая природа, к состоянию, в котором господствует высшая природа, т. е. оно означает возрастание человека, духовный его подъем. Упадочное же смирение хочет системы жизни, в которой никогда не наступает освобождение, никогда не достигается духовного подъема, никогда не выявляется высшей природы. Освобождение духа, духовный подъем, выявление высшей природы объявляется несмиренным состоянием, недостатком смирения. Смирение из средства и пути превращается в самоцель.
Смирение начинают противопоставлять любви. Путь любви признается не смиренным, дерзновенным путем. Евангелие окончательно подменяется «Добротолюбием». Где уж мне грешному и недостойному притязать на любовь к ближнему, на братство. Моя любовь будет заражена грехом. Сначала я должен смириться, любовь же явится как плод смирения. Но смиряться я должен всю жизнь и безгрешного состояния не достигну никогда. Поэтому и любовь не явится никогда. Где уж мне, грешному, дерзать на духовное совершенствование, на мужество и высоту духа, на достижение высшей духовной жизни. Сначала нужно победить грех смирением. На это уйдет вся жизнь, и не останется времени и сил для творческой духовной жизни. Она возможна лишь на том свете, да и там вряд ли, на этом же свете возможно лишь смирение. Упадочное смирение создает систему жизни, в которой жизнь обыденная, обывательская, мещански-бытовая почитается более смиренной, более христианской, более нравственной, чем достижение более высокой духовной жизни, любви, созерцания, познания, творчества, всегда подозреваемых в недостатке смирения и гордости. Торговать в лавке, жить самой эгоистической семейной жизнью, служить чиновником полиции или акцизного ведомства – смиренно, не заносчиво, не дерзновенно. А вот стремиться к христианскому братству людей, к осуществлению правды Христовой в жизни или быть философом и поэтом, христианским философом и христианским поэтом – не смиренно, гордо, заносчиво и дерзновенно. Лавочник, не только корыстолюбивый, но и бесчестный, менее подвергается опасности вечной гибели, чем тот, кто всю жизнь ищет истины и правды, кто жаждет в жизни красоты, чем Вл. Соловьев, например. Гностик,[3] поэт жизни, искатель правды жизни и братства людей подвергается опасности вечной гибели, так как недостаточно смиренен, горд. Получается безвыходный, порочный круг. Стремление к осуществлению Божьей Правды, Царства Божьего, духовной высоты и духовного совершенства объявляется духовным несовершенством, недостатком смирения. В чем же основной порок упадочного смирения и его системы жизни? Этот основной порок скрыт в ложном понимании соотношения между грехом и путями освобождения от греха или достижения высшей духовной жизни. Я не могу рассуждать так – мир лежит во зле, я грешный человек и потому мое стремление к осуществлению Христовой Правды и к братской любви между людьми есть горделивое притязание, недостаток смирения, ибо всякое подлинное движение в направлении осуществления любви и правды есть победа над злом, есть освобождение от греха. Я не могу говорить так – я грешный человек, мое и дерзновение познавать тайны бытия и творить красоту есть недостаток смирения, гордость, ибо подлинное познание и подлинное творчество красоты есть уже победа над грехом, преображение жизни. Нельзя сказать: грех искажает и извращает и любовь, и духовное совершенствование, и познание и все, и потому нет победы над грехом на этих путях. Ибо совершенно также можно сказать: путь смирения искажается и извращается человеческим грехом и корыстолюбием и есть искаженное, упадочное, извращенное смирение, смирение, превратившееся в рабство, в эгоизм, в трусость. Смирение не более гарантировано от искажения и вырождения, чем любовь или познание.
Грех побеждается с великим трудом и побеждается он лишь силой благодати. Но пути этой победы, пути стяжания благодати многообразны и объемлют всю полноту бытия. Наша любовь к ближнему, наше познание, наше творчество, конечно, искажаются грехом и несут на себе печать несовершенства, но так же искажаются грехом и несут на себе печать несовершенства и пути смирения. Христос завещал прежде всего любить Бога и любить ближнего, искать превыше всего Царства Божьего, совершенства подобного совершенству Отца Небесного. «Добротолюбие», в которое не вошли наиболее замечательные мистические творения Св. Максима Исповедника, Св. Симеона Нового Богослова и др., есть прежде всего собрание морально-аскетических наставлений для монахов, а не выражение полноты христианства и его путей. Не только дух Евангелия и апостольских посланий, но и дух греческой патристики в наиболее глубоких своих течениях иной, чем напр. односторонний дух православия Феофана Затворника. Конечно, у Феофана Затворника есть много верного и вечного, особенно в его лучшей книге «Путь к спасению», но отношение его к жизни мира – упадочно-боязливое, христианство его умаленное и ущербное. Центральной идеей восточной патристики была идея теозиса, обожения твари, преображение мира, космоса, а не идея личного спасения. Не случайно величайшие восточные учителя Церкви так склонны были к идее апокатастасиса, не только св. Климент Александрийский и Ориген, но и св. Григорий Нисский, св. Григорий Назианзин, св. Максим Исповедник. Судебное понимание мирового процесса, судебное понимание искупления, созидание ада, спасения избранных и вечной гибели всего остального человечества выражено главным образом в западной патристике, у блаж. Августина, а потом в западной схоластике. Для классической греческой патристики христианство не было только религией личного спасения. Она направлена была к космическому пониманию христианства, выдвигала идею просветления и преображения мира, обожения твари. Лишь позже христианское сознание начало более дорожить идеей ада, чем идеей преображения и обожения мира. Быть может, это явилось результатом преобладания варварских народов с их жестокими инстинктами. Эти народы должны были быть подвергнуты суровой дисциплине и устрашению, так как их плоть и кровь, их страсти грозили гибелью христианству и всякому порядку в мире. Христианство, понятое как религия личного спасения от вечной гибели через смирение, привело к панике и террору.[4] Человек жил под страшным давлением ужаса вечной гибели и соглашался на все, лишь бы избежать ее. Авторитарная система повиновения и подчинения создалась аффектом ужаса гибели, панического ужаса вечных адских мук.[5] При такой духовной настроенности, при таком состоянии сознания очень затруднено творческое отношение к жизни. Не до творчества, когда грозит гибель. Вся жизнь поставлена под знак ужаса, страха. Когда свирепствует чума и ежесекундно грозит смерть, человеку не до творчества, он исключительно занят мерами спасения от чумы. Иногда и христианство понимается, как спасение от свирепствующей чумы. Творчество и строительство жизни оказывалось возможным лишь благодаря системе дуализма, которая давала минуты забвения о спасении от гибели. Человек отдавался наукам и искусствам или общественному строительству, забыв на время о грозящей гибели, раскрывая для себя другую сферу бытия, отличную от той сферы, в которой свершается гибель и спасение, и ничем не связывая эти две сферы. Понимание христианства как религии личного спасения от гибели есть система трансцендентного эгоизма, или трансцендентного утилитаризма и эвдемонизма. К. Леонтьев с обычной для него смелостью исповедовал такую религию трансцендентного эгоизма. Но именно потому его отношение к жизни мира было вполне языческим, и он дуалистически сочетал в себе человека афонского и оптинского аскетически-монашеского православия с человеком итальянского Ренессанса XVI века. При трансцендентно-эгоистическом сознании человек поглощен не достижением высшей совершенной жизни, а заботой о спасении своей души, думой о своем вечном благополучии. Трансцендентный эгоизм и эвдемонизм естественно отрицает путь любви и не может быть верен евангельскому завету, который предлагает нам погубить свою душу для приобретения ее, отдать ее для своего ближнего, учит прежде всего любви, бескорыстной любви к Богу и ближнему. Но выдавать христианство за религию трансцендентного эгоизма, не знающую бескорыстной любви к божественному совершенству, значит клеветать на христианство. Это есть или христианство варварское, христианство, усмиряющее дикость страстей и этими страстями искаженное, или христианство упадочное, ущербленное, обедненное. Христианство всегда было, есть и будет не только религией личного спасения и ужаса гибели, но также религией преображения мира, обожения твари, религией космической и социальной, религией бескорыстной любви, любви к Богу и человеку, обетования Царства Божьего. При индивидуалистически аскетическом понимании христианства как религии личного спасения, заботы лишь о собственной душе, непонятно и ненужно откровение о Воскресении всей твари. Для религии личного спасения нет никакой мировой эсхатологической перспективы, нет никакой связи личности, отдельной человеческой души с миром, с космосом, со всем творением. Этим отрицается иерархический строй бытия, в котором все связано со всем, в котором не может быть выделена индивидуальная судьба. Индивидуалистическое понимание спасения более свойственно протестантскому пиетизму, чем церковному христианству. Я не могу спасаться сам, в одиночку, я могу спасаться лишь вместе с моими братьями, вместе со всем Божиим творением, и я не могу думать лишь о собственном спасении, я должен думать и о спасении других, о спасении всего мира. Да и спасение есть лишь экзотерическое выражение для достижения духовной высоты, совершенства, богоподобия как верховной цели мировой жизни.







