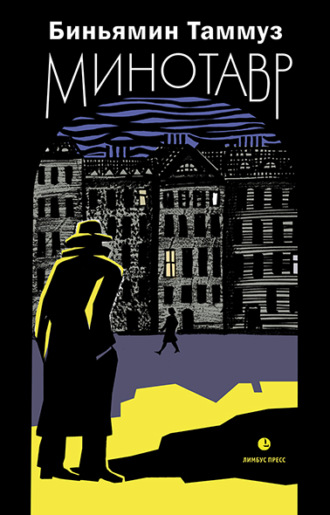
Бениамин Таммуз
Минотавр
Я права? Но и это несущественно. Если в том, что ты пишешь, есть хотя бы пятьдесят процентов правды, ты просто сумасшедший.
Нет, нет, нет… Ты не сумасшедший, мой дорогой. Все что угодно, только не это. Но что же ты на самом деле?
А теперь еще и это. Выясняется, что ты меняешь свой облик подобно облаку. Ты пишешь, что у тебя теперь другое лицо. Ну а глаза? Глаза ведь никакие врачи поменять тебе не могли, не так ли? А потому я уверена: даже с твоим новым лицом я теперь узнаю тебя, если встречу. По глазам, по взгляду. Слушай, я никогда не просила тебя ни о чем. Но я больше не могу. Не раскрывая себя, сделай так, чтобы хоть на миг оказаться рядом. Ведь если я поняла тебя правильно, в прошлом ты уже не раз оказывался рядом со мной. Сделай это снова еще раз. Прошу тебя! Ты увидишь, сердце мне подскажет, что это ты. И я упаду в твои объятья, на твои ладони. Без тени сомнения и без оглядки.
Не хочешь раскрывать себя – не раскрывай, пусть это выглядит как случайная встреча. Но потом, потом… Когда мы окажемся наедине, ты скажешь мне одно только слово: “Теа…”
Один раз. Прошу тебя об одной-единственной встрече. Пусть она даже будет первой и последней. Не бойся, я не выдам тебя, никогда и никому. Клянусь своею жизнью. Один раз. Случайная встреча двух людей… Может же такое случиться с мужчиной и с женщиной, любыми мужчиной и женщиной. Мы пойдем рядом, просто прижавшись друг к другу, болтая о пустяках, ни о чем. Зайдем в какой-нибудь ресторанчик, где играет музыка. Ты прислал мне за эти годы так много пластинок, но ни разу не догадался записать на одной из них свой голос, хотя возможности для этого у тебя, я уверена, были. Ты мог это сделать много лет назад. Но ты боялся нарушить конспирацию, да? Теперь ты уже ее нарушил, пусть чуть-чуть. Фотография передо мной, присоедини к ней, пожалуйста, свой голос.
Почти восемь лет я читаю твои письма. Временами мне хотелось, чтобы эта страница в моей жизни вообще отсутствовала. Но это в прошлом. Теперь я хочу, чтобы это никогда не прекращалось. Я не сомневаюсь в том, что однажды – когда-нибудь – мы встретимся, невзирая на все обстоятельства, настоящие и будущие. Кстати, сейчас самое время тебе объяснить, почему все мои письма я отправляю на имя Франца Кафки. Равно как и почему все пластинки, которые ты присылаешь, – одного-единственного композитора.
Я принадлежу тебе, видимо, так же, как жертва принадлежит избравшему ее тигру.
Твоя Теа».
15
«Любимая моя!
Твое письмо открыло мне глаза на еще одну сторону твоей личности. Ты не только прекрасна и умна, но и очень проницательна. Этого я в тебе не угадал, и поверь, мне стыдно. Как профессионал я не имел права позволить себе такой просчет; более того, помню, я не раз хвастал перед тобой своей способностью разгадывать и правильно оценивать людей. По правилам той игры, в которую я вызвался играть, мне просто положено читать в людских душах, раскрывать их с первого взгляда и делать это безошибочно, поскольку плата за ошибку – жизнь. И вот выясняется, что в человеке, о котором я думаю беспрестанно, я так и не разобрался до конца.
То, как ты расшифровала мою личность, имея под рукой одну лишь фотографию, – поражает. Прими мои поздравления, дорогая. Кое-что из того, что ты поняла, я предпочел бы скрыть от тебя; сейчас это сделать уже невозможно. Перед тобой был некий текст, требовавший расшифровки. И ты отлично справилась с задачей. К счастью (моему), ты не пошла дальше по пути всеобъемлющих (и опасных) выводов.
Я рад, что прошлое мое лицо тебе понравилось. Я уже начинаю опасаться, достаточно ли поработали надо мною врачи, чтобы уберечь от твоего проницательного взгляда. Будь ты чуть-чуть более тренированной, мои опасения переросли бы в тревогу. И знаешь, что пришло мне в голову (но это всего лишь шутка)? Если бы мы с тобой объединили свои способности (ну, хотя бы в деле международного шпионажа), из нас получилась бы пара, способная войти в историю разведки. Еще раз говорю, это всего лишь шутка, и, может быть, не из самых удачных.
Tea, любовь моя. Лишь тебе могу я признаться: в последнее время моя профессия требует от меня все чаще того, чего я уже выполнить не в силах. Ибо и для самых выносливых существует некий предел. Но если бы я поддался своей так естественно объясняемой слабости (любви к тебе, Tea), я оказался бы недостоин тебя. Ты писала мне как-то, что не выдержала бы разочарования во мне. Вот и ответ. Мы – то, что мы есть. Это и является основой нашей любви.
Об остальном позаботится контора.
Как ты и хотела, посылаю тебе пластинки с записью моего голоса. Это вторая часть фортепьянного концерта. В нем – моя мольба о встрече с тобой. Далее ты услышишь и заключительную треть, в которой я признаю, что никакие мольбы мне не помогут. Вот мой голос. Только он говорит с тобой на языке музыки.
А почему я выбрал Франца Кафку… Это просто. Я хотел бы быть его другом. И я по наивности (а может, просто по глупости) верю, что он бы согласился быть моим другом. Он был великим человеком. Известна его уступчивость и мягкость, он не брезговал общением даже с дураками, так что у меня были бы все шансы. Уместен твой вопрос, почему в таком случае я не назвался именем нашего с тобой любимого композитора. Отвечаю: уверен, он не нуждался в друзьях. Ему вполне было достаточно самой музыки и дружбы (условной) с теми, с кем он играл в бильярд.
Но я в бильярд, увы, не играю. А кроме того, он дурачил бы меня, как дурачил всех. Приходило ли тебе в голову, любимая, что в действительности сам он ничего не сочинял? Все эти дивные мелодии сочинила за него контора, а ему только и оставалось, что записать их по памяти. Таким образом, сдружиться с ним означало бы просто-напросто сдружиться с конторой, а до этого я еще не дорос. Достаточно и того, что каждый звук, написанный (а точнее, записанный) им, напоминает мне о тебе. И рассказывает (иногда с помощью намеков), что может случиться с человеком, не знающим своих границ. Вот почему я не искал бы его дружбы, ограничившись Францем Кафкой.
Почти на год я забросил свой испанский, поэтому на языке Гонгоры и Лорки я напишу тебе одну только, самую последнюю строчку:
Te quiero[5]…»
16
«Друг мой!
Прости мне, если я ошиблась. Прости за то, что я сейчас собираюсь тебе написать. Я хочу тебе задать один вопрос, только один… Ты сам меня к этому вынуждаешь.
Я прочитала твое письмо и прослушала записи – те, что ты назвал своим голосом. Но мой вопрос не об этом. Просто теряюсь, не знаю, как начать.
В своем письме ты никак не обозначил способ, каким я могла бы ответить тебе. С момента последнего твоего письма прошло уже больше двух месяцев. И я вновь и вновь оказываюсь с ним наедине. Я все думала о комплиментах, которыми ты осыпал меня, говоря о моей способности к расшифровке, чтению между строк – особенно это относится ко всему тому, что связано с выражением твоих глаз; помню, что я употребила выражение “невинный убийца”, и вместе с тем ты пишешь, что, к твоему счастью, я не сделала “далеко идущих выводов”.
Сначала я отнеслась к этим лестным словам как к очередному комплименту. Но что-то в них не давало мне покоя, и позднее я вновь вернулась к ним. А еще позднее я стала возвращаться к ним вновь и вновь, перечитала все, что ты мне писал. Поверь, к этим строкам я возвращалась даже во сне…
Это мое письмо, как и те, первые, написанные восемь лет назад, пойдет в шкатулку с надписью: “Письма неизвестному”. Но я надеюсь, что когда-нибудь от тебя придет очередная инструкция и я смогу его отправить…
Вопрос, который мучает меня, звучит так: “Скажи мне, пожалуйста, скажи открыто и честно, потому что до сих пор я продолжаю верить каждому твоему слову… Скажи, не виновен ли ты… пусть даже частично, в смерти Г. Р.?”
Теа».
17
«Мой дорогой, мой неизвестный, мой печальный, мой грустный человек!
Я готова никогда не отсылать те письма, которые положила в шкатулку. Я готова на все, только бы ты написал мне снова. Со времени последнего твоего письма прошло уже полгода. Почему ты молчишь? Что-то случилось, я чувствую… чувствую, что тебе плохо. Прошу тебя, умоляю – не умирай! Не исчезай… Откройся мне… быть может, я смогу тебе помочь. Быть может, пойду за тобой. А может, я захочу покончить со всем этим и порвать твои письма. Ты не можешь поступать со мною так. Я не контора. Я женщина, и мне скоро исполнится двадцать шесть лет. Ноша, которую ты возложил на меня, мне непосильна. Почему ты требуешь от меня так много?
Я не сомневаюсь в твоей любви, но эта любовь мне не по силам. Я чувствую себя твоей вдовой. Но и вдова имеет право знать – ты жив? Ты умер? Ты не вправе исчезнуть вот так, бесследно. Что мне делать? Скажи, что мне делать?»
18
Месяц спустя в город, в котором работала Tea, прибыл гость – лектор из Испании. Он был представлен местному преподавателю испанской литературы, и произошло это в университетской столовой. Увидев гостя, Tea, побледнев, не смогла произнести ни звука. Гость, с восхищением смотревший на красивую женщину, с тревогой спросил, не дурно ли ей. Tea пробормотала что-то невразумительное и быстро ушла к себе.
Учитывая пластическую операцию, сходство между испанским гостем и фотографией на ее письменном столе было поразительным. Непрерывно глядя на снимок, она думала, что эта операция в основном коснулась именно глаз – глаз, которых, как она надеялась, как раз и не тронет рука хирурга.
Глаза, бесспорно, были другими. Другой была их форма, другим выражение. Снимок не давал никакого представления о цвете этих глаз, поскольку был черно-белым. Гость выглядел сорокалетним. Кроме того, что он прибыл из Испании, она не знала о нем ничего. Пока ничего…
Tea подняла руку, чтобы поправить волосы, и увидела в зеркале, что рука ее дрожит. Она приняла таблетку валиума и закурила сигарету. Так и сидела она на диване, молча, не двигаясь. Приближалось время ужина, после которого гость должен был прочесть лекцию. «Не может быть», – сказала себе Tea. И снова: «Не может быть. Это совершенно другой человек…»
На ужин она не пошла. Но вскоре после него в ее комнату постучала пара друзей-коллег. Выглядели они весьма возбужденными и принесли с собою новость, которая, по их мнению, могла заинтересовать Теа: испанский красавец не перестает расспрашивать о ней всех, кого может. Он в восхищении и открыто, как это, очевидно, и принято в Испании, вновь и вновь говорит об этом тем, кто согласен его слушать. Знаешь, дорогая, что он говорит? Вы пожалеете, что пригласили меня сюда. Потому что вы теперь не избавитесь от меня, пока я не увезу с собой вашего преподавателя испанской литературы. Она пронзила мое сердце. С первой секунды и навсегда. Забавно, правда?
Tea почувствовала, что ее начинает трясти, когда возбужденные гости добавили еще одну деталь. Этот человек – не испанец. Он был приглашен в Мадридский университет по обмену около полугода назад… ты, разумеется, тоже заметила, что его испанский выученный, а не родной.
Войдя в столовую, она вздохнула с облегчением, только когда увидела, что гостя разместили вдалеке. Она могла хотя бы поглядывать на него, надеясь, что на расстоянии ее смущение будет не замечено.
Она поняла, что сходство с фотографией, так поразившее ее в первое мгновение, вовсе не было столь очевидным. Но и утверждать, что это сходство вовсе отсутствовало, тоже было нельзя.
Перед началом лекции, поднявшись со своего места, гость отыскал ее взглядом. И только потом обратился к своим записям. Он читал их на местном языке. Он читал их с акцентом, определить происхождение которого она не могла. Одно, по крайней мере, ей было ясно: акцент этот не был испанским.
Tea давно уяснила себе, что всех лекторов можно разделить на две категории: тех, кто начинает свои лекции какой-нибудь шуткой, и тех, что разбавляет научный текст поэтическими цитатами, даже если предметом лекции является экономика или медицина. Она не удивилась, обнаружив, что гость относится именно ко второй разновидности. А поскольку он приехал из Испании, не было удивительным, что между Гоббсом и Кейнсом прозвучали строки из Гонгоры. Удивительно то, что при этом она ощутила озноб, хотя истинной его причиной было, быть может, то, что, цитируя поэта, заезжий профессор поднял глаза от текста и отыскал ее взглядом. Впрочем, он делал это всякий раз, когда отрывался почему-либо от своих записок, а это случалось довольно часто.
Лекция была общедоступной и довольно забавной; такую мог прочесть любой не лишенный оригинальности старшекурсник с хорошо подвешенным языком – качества, которыми заезжий лектор был наделен в высшей степени, кроме того, он оказался человеком веселым, лишенным псевдонаучного занудства, открытым и хорошо воспитанным; похоже, он был способен на самые неожиданные сюрпризы, будь тому возможность. Постепенно Tea чуть-чуть оттаяла – не исключено, что под воздействием транквилизатора; после лекции она подошла к человеку из Мадрида и сказала:
– До меня дошли слухи, что вы всем здесь рассказываете о некоей любви с первого взгляда. Такой большой мальчик должен был бы осторожнее относиться к словам…
Улыбка коснулась губ испанского гостя:
– А мне показалось, что мое присутствие вам неприятно. Я был бы рад ошибиться. Очень рад…
Теа было нечего терять. Она взглянула приезжему прямо в лицо:
– Я скажу вам то, что говорят обычно подзагулявшие кавалеры девушкам, которые им понравились: вам не кажется, что мы с вами уже где-то встречались?
Ей показалось, что по его лицу пробежала тень разочарования. Тем не менее он ответил вежливо и достаточно сердечно, подчеркивая при этом каждое слово:
– Моя дорогая и прелестная слушательница. Мне кажется, что я знаю вас с того самого мгновенья, что я помню себя самого.
Tea с каким-то отчаянием вглядывалась в его лицо, не думая о том, что это может показаться невежливым. Она не смогла обнаружить никаких следов операции. «У нас хорошие врачи», – вспомнилось ей. Так или иначе, не было ничего – ни подтяжек, ни шрамов на подбородке или на шее, равно как и за ушами; кожа вокруг глаз, чуть в лучиках морщинок, выглядела совершенно свежей и натуральной, какой она и должна быть у красивого и здорового человека сорока лет. И сходство этого живого лица с изображением на фотографии показалось ей в этот миг почти несуществующим.
Она почувствовала, что в ней подобно волне поднимается гнев. Гнев на себя, за то, что она позволила себе увлечься иллюзией, питавшей ее все эти долгие восемь лет. Поневоле сойдешь с ума. Каждый хлыщ может сказать: «Я знаю тебя с тех пор, как помню себя». Что может быть более банальным и пошлым? Человек, который стоял перед ней, мог быть кем угодно. За одним исключением. Он не мог быть неизвестным. И тем не менее у нее не хватило мужества отказаться от самой невероятной, самой призрачной надежды, надежды вопреки всему – а вдруг… вдруг… И потому она сказала:
– Пожалуйста… уделите еще несколько минут этому милому обществу, которое вы успели очаровать, а потом зайдите ко мне. Мне совершенно необходимо задать вам несколько вопросов, личных вопросов. Учтите – они могут вам не понравиться. Если не хотите – не приходите. И не стройте никаких иллюзий, пожалуйста.
– Принято, – сказал гость. И, вежливо поклонившись, отошел. Она не отрываясь смотрела ему в спину. В его походке, во всем его облике она прочитала грусть пополам с покорностью и, быть может, даже с обидой. Это выглядело так, будто он разом как-то устал.
19
Стул, предназначенный для гостя, Tea поставила напротив фотографии. Когда он вошел, она усадила его за стол и вышла в кухню, чтобы приготовить кофе; сдвинув чуть-чуть занавеску, она видела то, что происходило в комнате. Гость не проявил к снимку никакого интереса; он поглядывал по сторонам, разглядывал трещины на потолке и терпеливо ждал возвращения хозяйки.
– Что вы думаете об этом человеке? – спросила Tea, вернувшись с кофе и указывая на снимок.
Он мельком взглянул на фотографию и перевел глаза на нее, словно сравнивая, а затем вежливо спросил, не является ли человек на фотографии ее отцом.
– Не кажется ли вам, что между вами есть сходство?
– Не возражал бы, – сказал гость. – Красивый мужчина, ничего не скажешь.
– Послушайте…
Tea села напротив него и перевела взгляд со снимка на лицо гостя, словно желая объединить то, что она видела, в единое целое.
– Послушайте. Скажите мне… это вы?
– Кто я?
– Тайный агент некоего государства. В вас стреляли полгода назад… два выстрела… после чего вам сделали пластическую операцию… Не говорите ничего… только ответьте: да или нет.
Он не улыбнулся. Он сидел без движения. Никакой реакции. «Может, он решил, что я сошла с ума?» – подумала Tea. Она могла бы его понять. Почему он молчит? Он должен сказать хоть что-то, ведь возможно все же… возможно все же, что это он… О боже!
– Нет, – сказал наконец гость. Слабая улыбка, скользнув по его лицу, погасла.
– Я не собираюсь ничего объяснять вам, – холодно сказала Tea. – Вы были предупреждены. Выпьете кофе?
– Спасибо, с удовольствием… Я вижу, у вас пианино. Вы играете?
– А вы?
– Да, – ответил он.
– Расскажите о себе. Если хотите. Кто вы?
– Мое имя вам известно. Я рад был бы рассказать вам о себе… я очень даже хочу этого… а кроме того… У меня ведь нет права задавать вам вопросы?
– Прав нет. Но вы можете спросить, если хотите.
– Я воспользуюсь вашим разрешением, – сказал гость. – Чуть позднее. А пока – о себе… Мои родители греки. Я родился в Египте, в Александрии. Я был еще ребенком, когда наша семья перебралась в Ливан. Там я закончил школу… и консерваторию. Мой отец хотел, чтобы я стал юристом, он готов был оплачивать мою учебу в каком-нибудь американском университете. Так я и сделал. Около двадцати лет тому назад вся семья перебралась в Европу. Сейчас я живу и работаю в Мадриде… вот пока и все. Если для начала этого достаточно… позвольте и мне задать вам вопрос… один-единственный…
Tea кивнула.
– Те вопросы, которые вы задавали мне… они были основаны на какой-то полученной обо мне информации… или это была попытка установить… или, точнее, попытка найти след человека, которого вы ищите?
– Уточните, пожалуйста, свой вопрос, – сказала Tea.
– Я могу только догадываться… только предполагать. Вас что-то связывает с человеком, личность которого для вас, похоже, не вполне ясна… окутана, скажем так, неким туманом. И вы пытаетесь понять, не я ли это. Я прав?
– А не сыграете ли вы что-нибудь? – сказала Tea, уклонившись от ответа. – Что-нибудь из того, что вы любите.
Гость вздохнул, улыбнулся и пересел к фортепьяно. Играл он первую часть сонаты Моцарта, и играл блестяще. Прервав игру, он с каким-то отчаянием повернулся к Теа.
– Извините, – сказал он. – Я играл плохо. Без постоянной практики техника пропадает. В консерватории, в юности, я лучше всего играл концерт для фортепьяно с оркестром. Но это было давно.
– А имя Франца Кафки вам ничего не говорит? – спросила Tea. Она чувствовала себя совсем разбитой. Ей было о чем подумать, более чем достаточно для первого раза.
– По-моему, всем известно это имя, – ответил гость. Улыбнулся ли он, или это ей уже померещилось? – Мне тоже, конечно.
– Не сердитесь на меня, – сказала Tea. – Но я прошу вас уйти.
– Я пришел, ибо вы меня об этом попросили. Точно так же я ухожу по первому вашему слову. Единственная просьба, с которой я обращаюсь к вам, – это дать мне еще две минуты. Прошу вас… сразу после этого я уйду. Но только выслушайте меня и ничего не говорите.
– Я слушаю, – сказала Tea.
– Вы самая красивая женщина, какую я когда-либо видел в своей жизни. В этом нет ничего нового для вас, я уверен. Уверен, что вы слышали это бесчисленное количество раз. Но я прошу вас… я прошу – дайте мне возможность видеть вас. Хотя бы один раз в день. Просто видеть. Спокойной ночи.
С этими словами гость встал и вышел из ком-наты.
20
Через два месяца наступала пора летних каникул, и Tea в сопровождении мадридского гостя поехала в свой родной город. В квартире ее родителей гостю была отведена отдельная комната, там ему предстояло прожить две недели, до возвращения в Мадрид. На третий день после приезда Tea, ее родители и гость сидели за вечерним чаем в большой гостиной. Было еще светло – долгий день плавно перетекал в светлую северную ночь; окна на улицу были открыты, наполняя комнату шумом уходящего дня, гомоном возвращавшихся домой, к своим очагам, людей. Мерный гул машин был внезапно прерван звуком выстрела, затем еще одним. И тут же все перекрыли скрип тормозов и громкие возбужденные голоса, потом все перекрыл вой сирены.
Поставив чашки на стол, все поспешили к окнам. И вовремя: оттеснив возбужденную толпу, двое дюжих полицейских пробились ко входу в кафе напротив и вошли внутрь. Еще одна сирена – на этот раз карета скорой помощи проложила себе дорогу в толпе; водитель и санитар выкатили носилки и тоже скрылись за дверью. Они пробыли там недолго. Очень скоро они вышли, неся покрытое простыней тело.
Tea стояла у окна. Ее била лихорадка, на вопросы она не отвечала. С трудом ее удалось уложить в постель. Дрожь все не проходила, пришлось вызвать врача, который сделал ей укол. Через какое-то время снотворное подействовало и Tea погрузилась в сон.
На следующий день, проснувшись, она отказалась выйти из комнаты, запретила кому бы то ни было себя беспокоить и попросила, чтобы ей принесли сегодняшние газеты. Она лежала в кровати и рассматривала снимок убитого вчера человека. У него были усы и борода, глаза его были закрыты.
В сообщении говорилось, что на теле убитого не было обнаружено никаких документов и граждан просят помочь полиции в опознании неизвестного. Еще было сказано, что убийца, выстрелив дважды, успел скрыться, не оставив следов. Неизвестный, ставший жертвой покушения, сидел в кафе у открытого окна, выходившего на улицу и глядевшего на дом напротив. Владелец кафе сообщил полиции, что этот человек три последних дня занимал одно и то же место – там, где его и убили, у окна. Он проводил в кафе каждый день по нескольку часов. Из постоянных посетителей никто его до тех пор не видел. Правда, вспоминали, что подобный случай был раньше: несколько лет назад другой посетитель имел такую же привычку – приходить в это кафе и подолгу сидеть на том же самом месте, у того же окна. Удалось также установить, что тот давний посетитель, любивший сидеть у окна, платил, причем постоянно, старому официанту, который, впрочем, уже умер, за какую-то информацию, но за какую именно, узнать не удалось. Владельцу кафе показалось, но он не был в этом уверен, что в этом деле каким-то образом была замешана женщина.
21
Несколько дней Tea не вставала с постели: лихорадка отступала, но затем возвращалась. Иногда она бредила, у нее был жар; врач приходил по первому вызову. Наконец его искусство победило и Tea пошла на поправку. Гость из Мадрида отложил свой отъезд и проводил все время у двери ее комнаты. Родители Теа были очень тронуты подобным вниманием. Они говорили, что его присутствие самым благотворным образом сказалось на выздоровлении их единственной дочери.
Так прошла неделя. В тот день, когда Tea достаточно окрепла, они вышли на прогулку. Парк был совсем рядом. Они немного погуляли, потом присели на скамейку. За все это время не было произнесено ни слова. Они просто сидели, окутанные теплом летнего дня, и молчали. Через некоторое время Tea сказала, что замерзла, и они пошли обратно.
По дороге домой они проходили мимо местной аптеки, и Tea, попросив своего спутника подождать, вошла внутрь. Аптекарь помнил ее совсем ребенком, когда она едва доставала до прилавка.
Она сказала, что ей требовалось, рецепта у нее не было. Аптекарь пожурил ее, посетовав на молодежь, которая – в эти-то годы – не может уснуть без снотворного.
– Если бы я не знал тебя, Tea, – сказал он и улыбнулся, вспомнив, наверное, маленькую девочку, прибегавшую за леденцами, – я ни за что бы не дал тебе это лекарство без рецепта. – И, упаковывая трубочку с таблетками в пакет, продекламировал: – My poverty, but not my will, consents[6].
Аптекарь играл в любительском театре и был большим поклонником Шекспира.
Tea вернулась к терпеливо ожидавшему ее гостю, оперлась на предложенную ей руку и улыбнулась:
– Погуляйте еще. А я вернусь одна. Я очень устала, и мне кажется, что сейчас я усну…



