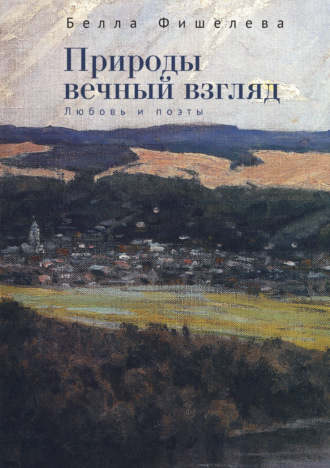
Белла Фишелева
Природы вечный взгляд. Любовь и поэты
В оформлении обложки использованы репродукции с картин В.Д. Поленова «Вид Тарусы с высокого берега Оки», 1883 г.
(лицевая сторона), И. И. Левитана «Осень», 1896 г. (оборот)
@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© Б. Б. Фишелева, 2022
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022
Без рифм
Личности
Пушкин и Александр I
«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щёголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда».
(А. С. Пушкин)
Неужели в истории подобное возможно снова и, может быть, не один раз?
* * *
«Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин,
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин».
(А. С. Пушкин)
Говорят, такие ещё есть и ныне, никчемные, бездарные, бессердечные, но они ходят в других костюмах и называются президентами.
Два высказывания великого поэта об одном и том же лице – царе Александре I. Четверостишием об этом монархе открывается частично расшифрованная десятая глава «Евгения Онегина». Она посвящена друзьям Пушкина, декабристам, и, начиная главу, поэт хотел, по-видимому, говорить о своём времени, поэтому не сказать о властителе огромной империи было невозможно. Сохранилось только это четверостишие, вся строфа неизвестна.
Но как выразительно то, что сказал Пушкин о царе! В словах из «Онегина» преобладает этическая характеристика Александра I.
Не царь, не император, а «властитель». В самом этом понятии сарказм: не о владыке громадного государства-империи идёт речь, а о таких, каких множество, в разных государственных сферах, и соответственно их положению подобных начальников иронически частенько называют владыками, властителями и т. п.
Далее следуют два убийственных определения: «слабый» и «лукавый». Слабый, т. е. ничтожный деятель эпохи, историческое ничто. А о том, что Александр I двуличен и способен лгать, «надувать», как определил это качество монарха один из русских, наблюдавших за царём на Венском конгрессе, знали многие его соотечественники. Автор употреблявшегося в народной речи слова настаивал на понятии «надувать», поскольку оно, по его словам, лучше всего характеризует эпоху Александра I. Видимо, этот человек исключал из оценки времени народный характер войны 1812-го года, после которой и случился этот международный конгресс в Европе.
Следующий момент четверостишия касается внешнего вида царя: «плешивый щёголь». Для нравственной оценки не очень, казалось бы, существенная деталь. П. Я. Чаадаев был абсолютно лыс в зрелые свои годы. Но этот мыслитель, друг Пушкина, интересовал поэта совсем другими своими особенностями. А личность Александра поэт целенаправленно стремится снизить и эстетически. Здесь интересен момент, отмеченный Ю. М. Лотманом, когда он говорил о данном месте 10-той главы. Учёный в своих комментариях к «Онегину» приводит слова Байрона из 16-ой главы «Дон Жуана» о русском царе, он у английского поэта «плешивый фанфарон». А. С. Пушкин читал «Дон Жуана» и внимательно, и восхищённо, так что, конечно, эту оценку, тоже беспощадно убийственную, краткую, но ёмкую, не просто принял к сведению, но, возможно, сопоставил её со своими эпиграммами на Александра I. Так или иначе, но сходство двух словосочетаний знаменитых поэтов явственно. «Фанфарон» или «щёголь»? Совершенно разные понятия или между ними есть общее? Первое, что их объединяет, это эпитет «плешивый». В сочетании с ним оба существительных лишаются какой бы то ни было положительной окраски, их смысл резко снижается, почти становится оксюмороном. Фанфарон – хвастунишка, лгун, бахвал, и чем же ему бахвалиться, что выставлять напоказ, если он уже немолод? Да и щёголю чем щеголять? Быть франтом, модником в немолодые годы смешно, тупо, а порой даже убого: ни в науке, ни в искусстве, ни в государственных делах никого не поразишь, не вызовешь симпатии. По поводу слов Пушкина об Александре: «враг труда» – комментаторы к «Онегину» говорят об известной современникам «лености» и «беспечности» царя, несмотря на властолюбие.
Было когда-то «дней Александровых прекрасное начало» (Пушкин), когда царь казался либералом, способным на радикальные реформы, но сменилось это начало мрачной аракчеевщиной и мракобесием Магницкого. Глава в «Войне и мире» (князь Андрей у малограмотного, но крайне самоуверенного Аракчеева) передаёт восприятие лучшими людьми своего времени военного министра России, которому царь практически отдал всё управление государством. Здесь Лев Толстой шёл за «божественным», как он его называл, Пушкиным. И, наконец, «нечаянно пригретый славой». Пушкин имеет в виду славу 1812-го года. Поэт вновь с иронией отделяет царя от героического времени в жизни России. Однако Николай I счёл неразделимыми явлениями победу над Францией и Наполеоном и царствованием брата Александра. Колонна-памятник в честь победы 1812 года получила название Александрийского столпа. Говорят, что лицо ангела, венчающего его, напоминает черты лица Александра I.
И, естественно, празднество в дни открытия памятника войне и Александру не могло остаться без ответа Пушкина. Русский поэт написал оду вслед римлянину Горацию, а тот, возможно, вслед поэтам («писцам») Древнего Египта.
Понятно, что основные мысли оды Пушкина носят общечеловеческий характер, и всё стихотворение не только о роли поэзии в жизни людей, но и об общественной роли искусства в целом. Главное заявление Пушкина о его «нерукотворном памятнике»: «к нему не зарастёт народная тропа, вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа…». Это противопоставление творчества поэта монархам и официальным событиям, пусть и знаменательным, пусть сама колонна – талантливое творение знаменитого Монферана.
И если четверостишие из 10-й главы «Онегина» – сатира, в которой главная тема – моральный облик правителя, то в стихотворении «К бюсту завоевателя», кроме этической, ставится и тема эстетическая – о роли истины в искусстве, о личности художника как важнейшего в обществе человека. Объект рассуждений – мраморный портрет, бюст, Александра I, его автор – датский скульптор Бертель Торвальдсен.
Текст стихотворения «К бюсту завоевателя» А. С. Пушкина развёртывается как драматическое произведение, в котором есть диалог действующих лиц и драматический конфликт. Полемичность произведения обнаруживается уже в начальной строчке первого четверостишия: «Напрасно видишь тут ошибку…» Пушкин не даёт в тексте понять, к кому он обращается. Но сцену легко представить в театре или кино: к человеку непосвящённому, с выражением некоторого смущения рассматривающему скульптурный портрет, обращается другой, уже размышлявший над созданием мастера и, как позже выясняется, знавший прототип образа на портрете.
Конфликт не так прост, каким кажется. Он проявляется и прямолинейно в первой фразе (ты видишь ошибку автора портрета), и в подтексте: как понять слова о «руке искусства», которая «навела на мрамор этих уст улыбку, а гнев на хладный лоск чела»? Автор, по-видимому, изобразил лицо таким, каким его увидел, хотя мог заметить противоречие между грозной верхней частью лица и улыбкой нежных женских губ – в нижней. Но этот мудрый человек почему-то не называет автора бюста ни скульптором-ваятелем, ни художником, ни мастером, а поднимает создателя произведения невероятно высоко: здесь действовала сама рука искусства. Она направляла разум, душу, руки художника. Но куда его вела «рука искусства»? Второе четверостишие отвечает на этот вопрос: она вела мастера к истине. Следовательно, лежащий в основе текста конфликт – это конфликт искусства и истины, потому что только подлинное произведение искусства неразделимо с истиной. И далее в словах этого человека, затеявшего спор, мы слышим гражданские ноты, заключительные мысли он произносит почти с пафосом. Оказывается, он знает «завоевателя», видел его постоянное лицемерие («противочувствие»), неотделимое от лжи, и считает, что этот «властелин» просто шут, подобный ярмарочному арлекину. Таков он в жизни, и его постоянную шутовскую игру выражает его лицо, которое живо и точно воссоздал скульптор, движимый стремлением к истине. «Лик сей двуязычен», – с беспощадной определённостью заявил Пушкин.
Заключение речи критика-гражданина – разрешение кажущегося здесь скрытым главного конфликта в искусстве: перед проблемой Правды в творчестве стоит каждый настоящий творец.
Историческую подоплёку скульптуры раскрыли искусствоведы, рассказав о найденной в бумагах А.С. Пушкина записке. Вот её содержание в собрании сочинений поэта: «Торвальдсен, делая бюст известного человека, удивлялся странному разделению лица, впрочем прекрасного, – верх нахмуренный, грозный, низ – выражающий всегдашнюю улыбку. Это не нравилось Торвальдсену». Но художник сохранил реальность, что подтвердил Пушкин своими обличающими стихами против Александра I. Однако в истории памятников есть пример идеализации образа этого царя. Известно, что скульпторам Мартосу и Гальбергу понравился реалистический принцип датского мастера, и они создали тоже достоверную модель памятника Александра для Таганрога. Но один из министров царского двора, возмутившись, сказал, что бюст Торвальдсена плох, потому что искажает облик покойного государя. Скульпторы отказались от своей модели и верноподданно выполнили волю двора, что соответствовало времени – эпохам классицизма, ампира, барокко – стилям, возвеличивавшим абсолютную власть.
Как видим, Пушкин был значительно выше времени, в котором жил: для него реализм, понимаемый как верховенство истины, соизмерим с самим высоким искусством. Говорят (и это похоже на правду), что величайший из греческих трагиков (наряду с Эсхилом и Софоклом) V века до н. э. Еврипид был изгнан из Афин за Истину, особенно проявившуюся в его «Медее». А весь сюжет трагедии Софокла «Царь Эдип» и мифа в её основе посвящён Истине, которая противостоит губительной силе лжи и заблуждения.
Смысл и цель жизни
Герой М. Ю. Лермонтова, пробегая в памяти своё прошедшее, спрашивает себя: «зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое…» Может быть, не только «Бородино», по словам Льва Толстого, было зерном его эпопеи «Война и мир», но и философский роман М. Ю. Лермонтова. Хотя вопрос о смысле и цели жизни был с Толстым всю его жизнь.
Главные герои «Войны и мира» Андрей и Пьер неустанно ищут этот смысл людского бытия и своего собственного на протяжении всей их жизни в романе.
Решение проблемы приоткрывается им, когда они оказываются один на один с природой. И совсем не тогда, когда они общаются с личностями, которые, казалось бы, играют роль в развитии истории. Раненый князь Андрей на поле Аустерлица неожиданно для себя видит высокое, бесконечное, доброе небо с бегущими по нему белыми облаками. Он удивлён, что не знал его раньше. Небо открылось Болконскому как откровение, почти божественное, потому что он ощущает некую духовную силу в том, что он увидел, и надеется, что вскоре поймёт её суть. «Вот прекрасная смерть!» – слышит он над собой и понимает, что это произносит Наполеон – его герой. Но голос императора звучит для князя Андрея, как если б он слышал пролетавшую муху. Французский полководец объезжает это поле смерти как великое свидетельство его очередного триумфа. Видимо, оно для Наполеона так же прекрасно, как смерть русского офицера. А для читателя образ Бонапарта теперь неотделим от смерти, которую этот воитель постоянно воспроизводит. Наполеон сброшен, он перестал быть идеалом Болконского. Но образ неба остался с ним навсегда и представал перед ним в лучшие моменты его жизни.
То же происходит с Пьером Безуховым, духовно исключительно близким князю Андрею. Пьер, находясь в плену, словно врывается в космическое пространство: он видит звёздное небо и ощущает в эти мгновения бессмертие своей души и духовную свободу. Он кричит об этом, может, ему хочется, чтобы о его открытии слышал весь мир, а открытие – в осознании своей свободы. Её до этого общения с природой, с бесконечностью и несказанной красотой неба, он не знал. Плен, то есть бездействие, неподвижность, подавленность и конвоиры французы, – всё оказалось бессильным поработить Пьера.
Как и Болконский, Безухов ощущает в природе духовную мощь, которую невозможно ни превзойти, ни уничтожить. Она вечна, существует сама по себе, живёт по своим внутренним законам. Возможный вывод читателя: природа не знает хорошего и плохого, добра и зла, прекрасного и ужасного – она живёт, и ничего более, она не знает никакого смысла бытия, она не знает и о том, что в ней, в единстве с ней, живут люди. Следовательно, смысл жизни и её цель, по Толстому, есть сама жизнь. Ей противостоит смерть, а смерть есть отсутствие жизни. И всё в естественном течении обусловлено этим бытием жизни. Думаю, в мировой литературе нет подобного по силе художественной, по убедительности доказательств и логики отрицания войны как источника смерти. Лев Толстой развенчал Наполеона Бонапарта и отказал ему в праве называться великим.
Неслучайно Гитлер и его приспешники считали Толстого врагом «великой Германии», как они её понимали, а «Войну и мир» сжигали на кострах, уничтожая то, что противостояло их бесчеловечной доктрине, в которой война за мировое господство занимала центральное место, а какое количество людей унесёт смерть, не имело для них значения, ибо цель оправдывала средства.
С философскими идеям Льва Толстого, касающимися войны, все нормальные люди согласны и оставили свои поиски смысла и цели жизни? Конечно, нет: поиски смысла и цели жизни продолжаются, и, наверное, так будет, пока живут люди, даже перед лицом гибели человечества во Вселенной.
О третьей симфонии Бетховена
Говорят (это стало легендой, а возможно, так и было), что 3-я симфония, «Героическая», первоначально не была посвящена героям вообще, их напряжённой, титанической борьбе (1-ая часть), и на её титульном листе стояло имя Наполеона. Вольнолюбивый композитор был восхищён необычной судьбой Наполеона Бонапарта, его личностью как наследника идей и деяний Великой французской революции. Действительно, Наполеон стал кумиром многих людей Европы, стал, по словам А. С. Пушкина, «властителем дум» (стихотворение «К морю»). Но произошло разочарование, может быть, и возмущение Бетховена, когда «наследник революции», а это случилось после казни короля и королевы, объявил себя императором. Франция вместо республики получила вновь монархию, названную более торжественно – империей.
Правда это или миф, неажно: «Героическая» была и остаётся «каким-то чудом даже среди произведений Бетховена. Она открывает собой эру» (Ромен Роллан). В 3-тьей симфонии «раскрылась впервые вся необъятная, изумительная сила творческого гения Бетховена» (П.И.Чайковский). «Необъятная творческая сила» – это то, что мы считаем постоянным воспроизведением человеческой жизни, потому что, чтобы жить, люди должны воссоздавать себя, всё человеческое в себе. Создания Бетховена «открывают собой эру» – эти слова Р. Роллана, писателя и исследователя творчества немецкого композитора, связаны с мыслью о громадной гуманистической роли музыки. Суть этой мысли в том, что музыка, классическая, Бетховена, например, является источником жизни. Как бы до сих пор ни возвышали личность Наполеона Бонапарта, он остаётся гением, сеявшим смерть, разрушения, страдания людей. «Гений и злодейство»[1] – всё-таки проблема, и личность Наполеона тому пример. Исторически Бетховен и Наполеон Бонапарт противостоят друг другу как антиподы.
И что же, Наполеон – это что-то уникальное среди тех властителей, которые, придя к власти, способны вести политику, прямо противоположную своим прошлым утверждениям, лозунгам, обещаниям, постоянно укрепляя своё по сути монаршее положение? Нет, они, как когда-то Юлий Цезарь, сами способствуют своему обожествлению и попирают, порой уничтожают права граждан. А таковых нет в наше время? 21-ый век бесконечно далёк от подобных (конец 18 века!) наполеоновских притязаний? Императорами себя не объявляют, но спасителями своего народа, может быть, и человечества – исподволь, конечно, провозглашают. Неужели есть ещё такие, навязывающие себя людям, не гнушающиеся никакими средствами подавления инакомыслия? После критики И. Кантом (конец 18 века!) такой максимы, как «цель оправдывает средства», они отказались от идеи, что все средства хороши, если они укрепляют их якобы единственно возможную власть? Неужели люди, общество, поддерживают их? А может, люди есть, но общества ещё нет? Как нет? Ведь в том же 18 веке об обществе всё было сказано в той же Франции, например? А, понимаю: они книжки знаменитых просветителей не читали, но когда прочитают, то… Случится это ТО? Или только великий Бетховен способен на отрицание подобных «властелинов судьбы»[2], или такие, как он, единичные существа в поле зрения истории, или нужно сначала стать гением, как Бетховен? Но как до этого далеко!
«Вечер» А. А. Фета
Первая строфа стихотворения Афанасия Фета 1853-его года «Вечер». Четыре строчки трёхстопного амфибрахия, и образ летнего вечера в средней части европейской России возникает в нашем сознании настолько реально, точно мы видим его сейчас, в эти мгновения. Вот эта строфа-картина:
Прозвучало над ясной рекою, Прозвенело в померкшем лугу, Прокатилось над рощей немою, Засветилось на том берегу.
Трудно найти в мировой поэзии прекраснее этих строк, рисующих русскую природу. Они неизъяснимо, томительно, таинственно прекрасны. Мы не знаем, какой звук или звуки слышал поэт и что можно было бы нам услышать. Наверное, чтобы как-то понять звучание летних вечеров, услышанное Фетом, мы должны прослушать все музыкальные картины природы великих композиторов, таких, например, как Чайковский, Мусоргский, Равель, Дебюсси. Однако и после этой музыки четыре строчки стихотворения Фета останутся неизъяснимо прекрасными.
Как во всём его творчестве, А. А. Фет проявляет здесь «лирическую дерзость, свойство великих поэтов» (слова Л. Н. Толстого о Фете). Картина создана четырьмя глаголами прошедшего времени, среднего рода, а картина летнего вечера перед нами, точно в объёмной яви. Эти явления вечера в движении: глаголы идут подряд, не утомляя наш внутренний взгляд, и расширяют рамки пейзажа. В стихотворении всего три строфы, 2-я и з-я дают необходимые, как, возможно, думал поэт, детали пейзажа летнего вечера. Но суть картины словно задана первой строфой: при явном лиризме стихотворения в целом в нём ощущается (и это мы видим, представляя всю картину!) эпическая полнота, словно необъятное пространство, даже невидимый, но чувствуемый нами вселенский простор. Какое-то чудо – чудо искусства, не поддающееся обоснованию логики!
Но мы будто стоим на том «пригорке», где и «сыро», и «жарко», видим и слышим бескрайний мир, одухотворённый языком поэзии великого мастера слова. Этот мир – тайна, как дал нам понять Афанасий Фет, нарисовав простыми русскими словами картину родной природы и вызвав ответное чувство любви к ней
Май 2021 г.
Любовь и поэты
Мне хочется остановиться на теме «Любовь и поэты» и поговорить о любовной лирике Пушкина, Тютчева, Фета, Маяковского, Пастернака.
Им было дано жить в разные времена русской истории, у них был разный срок жизни и творчества, но они оказались в высокой степени достойны своего бытия и как поэты, создавшие, каждый, неповторимый, уникальный мир, и как личности, отличившиеся в истории человечества не только особой одарённостью, но и тем, что поднимали в своём искусстве вопросы мировой, общечеловеческой ценности. Любовь в жизни людей – духовное и природное явления, находящиеся в единстве, если этой гармонии нет, то нет и любви.
Александр Сергеевич Пушкин
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.
А. С. Пушкин. «На холмах Грузии…» 1829.
Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.
А. С. Пушкин. «Мадонна». 1830.
Определяя своеобразие А. С. Пушкина как лирического поэта и особенности его лирики, В. Г. Белинский обратил внимание на уникальное свойство его лирических стихов – на «лелеющую душу гуманность» и на то, что личность автора выступает в его произведениях по преимуществу любящей, именно гуманной. Эти мудрые мысли критика, первооткрывателя Пушкина как величайшего поэта, обладающего шекспировской художественной силой, относятся и к его лирике любви в полной мере. Личность Пушкина в этой наиболее личной сфере проявляется ярко и полно.
Поэт восхищается женской красотой как чисто человеческим достоинством, он восхищается умом женщины и каждый раз видит уникальность своих героинь.
Стихотворение «Мадонна» адресовано жене Пушкина Наталье Николаевне. Некоторые современники поэта называли её воплощением поэзии, настолько она была хороша собой. Для Пушкина красота – божественный дар, как гениальность, как то, что по своей сути не нуждается ни в каких практических основаниях своего существования, она сама по себе, она суть самой себя. Как видим, эстетика
И. Канта была созвучна пониманию Пушкиным и прекрасного, и искусства. В стихотворении «Каков я прежде был, таков и ныне я…» (1828 г.) поэт обращается к друзьям и предельно откровенно говорит о своём отношении к любви и красоте – явлениям неразделимым:
Каков я прежде был, таков и ныне я;
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать без умиленья,
Без робкой нежности и тайного волненья.
Уж мало ли любовь играла в жизни мной?
Уж мало ль бился я, как ястреб молодой,
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой…
Отношение А. С. Пушкина к женщине передаёт и стихотворение «Буря», в котором дева «в одежде белой над волнами» во время грозы противопоставляется самой могучей природе. В последней строфе поэт обобщает:
Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блеске без лазури,
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.
Однако не только красота возлюбленной волновала Пушкина. Нравственное, психологическое, философское могло заставить его обратиться к женщине, с которой давно расстался, и записать в её альбоме при встрече стихи с темой высокой, этической. Таково стихотворение 1829года «Что в имени тебе моём…». Невозможно не услышать музыку поэтической речи поэта. Она звучит, как музыка великих, от Баха к Шопену и Чайковскому, заставляя и глубже чувствовать, и шире мыслить. Личность поэта вновь и вновь предстаёт и любящей, и гуманной! Но никакой идеализации реальности здесь нет. Поэт знает, как коротка жизнь, но суета может подчинить себе человека. И он не ответит на самые чистые чувства когда-то близкого ему друга. Тропы, использованные поэтом, способствуют широким обобщениям и философской значимости текста. Таковы сравнения в первой строфе:
Что в имени тебе моём?
Оно умрёт, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.
Таковы и эпитеты: печальный, дальный, ночной, глухом. Настораживает здесь и глагол-метафора «умрёт» (имя умрёт!). Это лексика забвения и смерти. Уже в начале речи поэта весь земной природный и людской мир предстал в трагическом своём существе, и тем самым задана была тональность понимания реальности автором лирического монолога.
Вторая строфа усиливает трагическую тему забвения: появились мрачные образы памяти: «мёртвый след», «узор надписи надгробной». В третьей строфе – мысль о том, что новые заботы и волнения могут стереть «чистые и нежные воспоминания», потому что в природе постоянны изменения, превращения, и это закон не только природы, но и жизни людей. Как умирает всё, что родилось, жизнь человека, например, так умирает и любовь, если жизненные силы не питают её. Эта строфа, кроме обобщения о конечности бытия человека, напоминает о ещё более скорбном факте – о забвении того, кого когда-то знали, ценили, любили. Даже имя его – это «мёртвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке»: поразительный по изобразительности и точности сравнения образ.
Третья строфа – развитие мысли о неизбежности забвения даже имени когда-то страстно любившего юную особу молодого человека. Эта третья часть завершает рассуждения Пушкина в духе библейской Книги Экклезиаста: конец жизни человека во всех её проявлениях неизбежен.
С первой строчки мы слышим проникновенное обращение поэта к женщине, которую любил когда-то и даже предлагал ей стать его женой (из биографии Пушкина). Оно записано было в альбоме К. Собаньской 5 января 1830 года, напечатано в «Литературной газете» того же года и включено в издание 1832 года. Видимо, Пушкин, не всегда печатавший стихи, где отражалась его личная жизнь, счёл возможным представить публике это стихотворение. Причина, мне думается, – философская тема памяти.
Но… есть четвёртая, заключительная строфа. Она, как кода в музыкальном произведении, следует за основным разделом данной стихотворной пьесы, когда скорбно-трагическая тональность стихотворения определена полностью. А именно: забвение страшнее самой смерти, а здесь забвение любви. Кода как будто бы не нужна: сказано всё. Но она есть – 4-ая строфа, в которой появился свет. Свет этот – память любви. Она и вечна, и светла. Кода противостоит предыдущему высказыванию, но она и обобщает предшествующие мысли поэта.
Финал настигает всех нас, он сопряжён с печалью и тревогой. Когда возникает это состояние души? При воспоминании об ушедших годах молодости, любви и счастья. Поэт словно зовёт возрождение души любимой им в прошлом женщины. Память, могучая сила людского бытия, является в последних строках во весь рост, как закон всемогущего времени, от него уйти нельзя. Светло и сердечно-просто звучит кода об имени когда-то любимого женщиной человека, но я процитирую и предшествующую строфу:
Что в нём? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я…
В поэтической сокровищнице Пушкина содержатся стихи как воспоминание об Амалии Ризнич или обращённые к ней. С этой необычайно красивой молодой женщиной, женой видного негоцианта, Пушкин познакомился в Одессе во время южной ссылки. В стихотворении «Под небом голубым страны своей родной…» 1826 года поэт пишет о сложности его чувств к Амалии Ризнич:
… любил я пламенной душой,
С таким тяжёлым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем.
Но в 1824 году весной она уезжает, а через год умирает от чахотки в Италии, ей было 22 года. Впоследствии эти события стали сюжетным источником знаменитых стихотворений Пушкина. А сейчас, в 1826-ом, получив уже в Михайловском известие о её смерти, поэт остался равнодушным:
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я…
В рукописи Пушкина от 29 июля 1826 года сокращённо есть записи о смерти Ризнич и пятерых казнённых декабристов («друзей»). Наверное, кроме смерти этих пятерых, Пушкин не мог воспринять любую другую утрату. Но какое же поэтическое отпевание Амалии Ризнич совершил великий лирик в 1830 году во время карантина в Болдине! Два стихотворения – гениальные его создания: «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной…» То и другое – настоящие шекспировские драмы. В высшей степени эмоциональна речь, даже крик души, страдающего человека в «Заклинании». Он заклинает тень возлюбленной вернуться к нему – любящему с той же отчаянной страстью, что и прежде. Герой в конфликте со всем на свете: со смертью, с природой, убившей его любовь, а главное – с судьбой, власть которой, видимо, мучимый сомненьями, он отрицает. Надеется он на правду народных суеверных преданий:
О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы…
Я тень зову…
Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как лёгкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне всё равно, сюда! сюда!
Зову тебя…
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь…но тоскуя
Хочу сказать, что всё люблю я,
Что всё я твой: сюда, сюда!
Герой, несомненно, в конфликте с собой, и, обуреваемый воспоминаниями, заклинающий высшие силы, он не в состоянии умалить мощь страданий и тоски, возможно, вызванные одиночеством. А это приближало автора к его современникам, вызывая сочувствие к самому создателю стихотворения.
«Заклинанье» датировано 17-ым октября 1830 года, а уже 27 ноября того же 1830-го появляется «Для берегов отчизны дальной…». Я не могу говорить об этом создании А. С. Пушкина в отрыве от музыки романса Александра Порфирьевича Бородина, более того, от исполнения его Дмитрием Хворостовским. Два автора: поэт и композитор – конгениальны. Эта конгениальность в том, что у того и другого форма и содержание слиты: содержание есть форма, а форма – содержание. Никто так, как А. Бородин своей музыкой, не проник в поэтическую суть этого стихотворения Пушкина о любви.
А. П. Бородин назвал «Для берегов отчизны дальной…» трагедийной элегией.
Не будет, мне кажется, преувеличением сказать, что подобное сочинение Пушкина уравновешивает собою, как произведение искусства, романную форму великих русских прозаиков. В этом стихотворении действительно есть эпический момент – сходство с романтической балладой: незримо присутствует смерть, сначала как бы дыхание её, после – приход в реальность, а страшное, сверхъестественное характерно для баллад. Вспомним «Лесного царя» Иоганна Вольфганга Гете и музыку Франца Шуберта, в которой пребывают стихи знаменитого поэта, и увидим сюжетную близость баллад Гете и Пушкина. В центре произведения немецкого классика – трагическая смерть ребёнка, он убит лесным царём. Мальчика вёз отец, и в конце пути оказалось: «в руках его мёртвый младенец лежал». Это роковая смерть: по-видимому, в жизни мальчика не было любви. Такая мысль возникает, когда мы слушаем стихи и музыку «Лесного царя». Эта мысль о любви как основе жизни незримо присутствует в немецкой балладе.
Драматизм, страшное, трагическое в сюжете и тексте А. С. Пушкина естественны. «Для берегов отчизны дальной…» – это в форме баллады воспоминание-обращение лирического героя к умершей возлюбленной. Балладой сочинение становится словно на наших глазах, поскольку уже превращается в легенду и захватывает слушателей давно разыгравшейся драмой.







