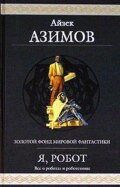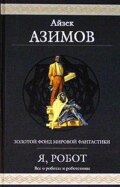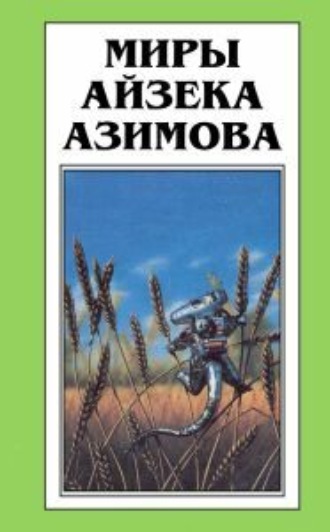
Айзек Азимов
Галатея
– Вот, видишь, – сказала она, – на табличке написано: «Журавль в полете».
Изучив этот предмет, который был сделан из чистейшей бронзы, я спросил:
– Да, табличку я вижу. А где журавль?
– Да вот же он! – она ткнула в маленький заостренный конус, поднимавшийся из бесформенного бронзового основания.
Я внимательно рассмотрел конус и спросил:
– Это журавль?
– А что же еще, старая ты развалина! – она любила такие ласкательные прозвища. – Это острие длинного журавлиного клюва.
– Бузинушка, этого достаточно?
– Абсолютно! – твердо сказала Бузинушка. – Ведь не журавля представляет эта работа, а вызывает в уме зрителя абстрактное понятие журавлиности.
– А, – сказал я, несколько сбитый с толку. – Теперь, когда ты объяснила, действительно вызывает. Но ведь написано, что журавль в полете. Откуда это следует?
– Ах ты дуролом недоделанный! – воскликнула она. – Ты вот эту аморфную конструкцию бронзы видишь?
– Вижу, – ответил я. – Она просто бросается в глаза.
– Так не станешь же ты отрицать, что воздух, как и любой газ, если на то пошло, является аморфной массой. Так вот, эта аморфная бронза есть кристально ясное отражение атмосферы как абстрактного понятия. А вот здесь, на передней поверхности бронзы – тонкая и абсолютно горизонтальная линия.
– Вижу. Когда ты говоришь, все так ясно.
– Это абстрактное понятие полета через атмосферу.
– Замечательно, – восхитился я. – Просто глаза открылись от твоего объяснения. И сколько ты за это получишь?
– А, – она махнула рукой, как будто не желая говорить о таких пустяках. – Может быть, тысяч десять долларов. Это же такая простая и очевидная работа, что мне неловко запрашивать больше. Это так, между прочим. Не то что вот это.
Она показала на барельеф на стене, составленный из джутовых мешков и кусков картона, размещенных вокруг старой взбивалки для яиц, вымазанной чем-то напоминающим засохший желток.
Я взглянул с уважением:
– Это, разумеется, бесценно!
– Я так полагаю, – ответила она. – Это тебе не новая взбивалка – не ней вековая патина. Я эту взбивалку на свалке нашла.
Потом, не могу до сих пор взять в толк почему, у нее задрожала нижняя губа, и она всхлипнула:
– О дядя Джордж!
Я сразу встревожился и, схватив ее красивую, сильную руку скульптора, с чувством пожал.
– В чем дело, дитя мое?
– Джордж, если бы ты знал, как мне надоело лепить эти простенькие абстракции только потому, что публике они нравятся. – Она прижала костяшки пальцев ко лбу и трагическим голосом сказала; – Как бы я хотела делать то, что мне на самом деле хочется, чего требует мое сердце художника.
– А что именно, Бузинушка?
– Я хочу экспериментировать. Я хочу искать новые направления. Я хочу пробовать неиспробованное, изведать неизведанное, исполнить неисполнимое.
– Так кто же мешает тебе, дитя мое? Ты достаточно богата, чтобы это себе позволить.
И тут она улыбнулась, и ее лицо засияло красотой.
– Спасибо на добром слове, дядя Джордж. На самом деле я себе действительно это позволяю – время от времени. У меня есть потайная комната, в которой я храню то, что может понять только вкус настоящего художника. «Тот вкус, что привычен к черной икре», – закончила она цитатой.
– Мне можно на них посмотреть?
– Конечно, дорогой мой дядя. После того как ты меня так морально поддержал, разве я могу тебе отказать?
Она подняла тяжелую гардину, за которой была еле заметная потайная дверь, почти сливавшаяся со стеной. Девушка нажала кнопку, и дверь сама собой открылась. Мы вошли, дверь за нами закрылась, и вся комната осветилась ярчайшим светом.
Почти сразу я заметил скульптуру журавля, выполненную из какого-то благородного камня. Каждое перышко было на месте, в глазах светилась жизнь, клюв приоткрыт и крылья полуприподняты. Казалось, он сейчас взовьется в воздух.
– О Боже мой, Бузинушка! – вскрикнул я. – Никогда ничего подобного не видел!
– Тебе нравится? Я это называю «фотографическое искусство», и мне оно кажется красивым. Конечно, это чистый эксперимент, и критики вместе с публикой уржались бы и уфыркались, но не поняли бы, что я делаю. Они уважают только простые абстракции, чисто поверхностные и сразу понятные каждому, не то что это, для тех утонченных натур, кто может смотреть на произведение искусства и чувствовать, как его душу медленно озаряет понимание.