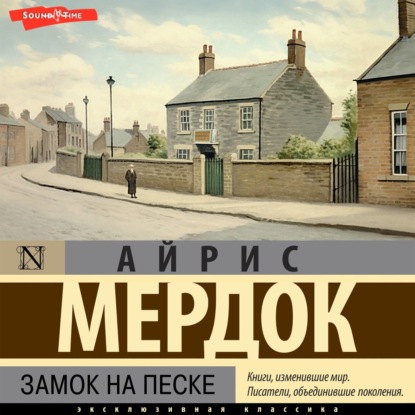- Рейтинг Литрес:4.6
- Рейтинг Livelib:3.4
Полная версия:
Айрис Мердок Бегство от волшебника
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Айрис Мёрдок
Бегство от волшебника
Роман
Iris Murdoch
The Flight from the Enchanter
* * *Печатается с разрешения Curtis Brown UK и The Van Lear Agency.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© Iris Murdoch, 1956
© Перевод. И. Трудолюбова, 2023
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
Глава 1
Была пятница, время приближалось к трем часам дня. И тут-то Анетта окончательно решила бросить школу. Урок итальянской литературы шел своим чередом. Громким, пронзительным голосом преподавательница читала двенадцатую песнь «Ада». Она как раз подошла к строкам о Минотавре. «Ад» Анетта не любила. Эта книга казалась ей жестокой и неприятной. Особенно строчки о Минотавре. За что бедняга Минотавр должен мучиться в пекле? Он ли виноват, что родился чудовищем? Тут Бог виноват. Минотавр метался от боли, описывает Данте, как бык, смертельно раненный секирой. «Посторонись, скот!» – угрожающе продекламировала преподавательница. Эта англичанка в молодости побывала во Флоренции и прослушала там курс итальянской культуры. Ну вот, Вергилий принялся оскорблять Минотавра. И терпение Анетты лопнуло. В этой школе учат одним глупостям, подумала она. Буду учиться самостоятельно. Вступлю в Школу Жизни. Анетта аккуратной стопкой сложила учебники и встала. Потом прошла через класс и важно кивнула преподавательнице, которая, прервав чтение, неодобрительно смотрела на ученицу. Анетта вышла и тихо закрыла за собой дверь. И вот она уже снаружи, в устланном коврами коридоре. Ну до чего же все просто! Давно бы решиться. От радостного удивления Анетта просто рассмеялась. Она вприпрыжку пробежала по коридору, потревожив стоящую на подставке элегантную цветочную вазу, и спустилась в гардеробную. Как раз пробило три.
Колледж Рингхолл, дорогостоящее высшее учебное заведение в районе Кенсингтона, брался обучать юных девиц тем наукам, которые им были необходимы для того, чтобы поймать мужа в один, ну, в худшем случае, два светских сезона. Дальновидные мамаши из слоев общества, откуда Рингхолл набирал своих учениц, были совсем не так богаты, как показывали на людях, и поэтому желали быстрых результатов. Школа бралась за дело со всей серьезностью, как за военную операцию. Анетта поступила в Рингхолл месяцев шесть назад. Ее отец, дипломат, хотел, чтобы дочь «дебютировала» в лондонском свете, и считал, что краткое пребывание в заведении вроде Рингхолла поможет воспитать в его «бродяге без роду и племени», как он называл дочь, манеры английской леди. Это время должно было, по мнению Анеттиного отца, стать необходимой, а может быть, и завершающей частью ее воспитания. Самому Эндрю Кокейну, покинувшему Англию в возрасте двадцати трех лет, лондонская жизнь казалась, хотя в этом он ни в коем случае не признался бы, утомительной и скучной. Тем не менее он позаботился определить своего сына именно в ту привилегированную частную лондонскую школу, которую сам в свое время окончил. Образование дочери считалось вопросом менее важным; училась онаun peu partout[1] и успела изучить четыре языка и кое-что еще; но, с отцовской точки зрения, своего «пика» учение Анетты должно было достигнуть не где-нибудь, а именно в Лондоне. Мать Анетты, по национальности швейцарка, лишь руками развела и со всем согласилась; а если у нее и были какие-то сомнения, то она их оставила при себе.
Анетте вскоре должно было исполниться девятнадцать. В отношении Рингхолла она не сомневалась ни минуты: невзлюбила его сразу. К соученицам относилась сочувственно-презрительно, а к учителям – исключительно презрительно. Директрису, мисс Уолпол, ненавидела всей душой и без всякого повода, хотя мисс Уолпол ничего плохого ей не сделала и вообще, кажется, ее не замечала. Такого чувства беспричинной ненависти Анетта прежде ни к кому не испытывала и поэтому даже начала им гордиться как неким, как она считала, признаком зрелости. Против того, чему ее в Рингхолле пытались научить, она боролась с неизменным упорством, дав клятву самой себе, что ни одна из рингхолльских благоглупостей не найдет даже временного пристанища в ее уме и памяти. При первой возможности она в классе или углублялась в интересную книжку, или начинала писать письмо. А если такой возможности не было, погружалась в приятные мечты или в не менее приятное оцепенение. Чтобы его достичь, требовалось прежде приоткрыть рот и сосредоточить все внимание на каком-нибудь предмете, находящемся вблизи. Смотреть пристально, до полного остекленения глаз, до абсолютной пустоты в мозгу. Но вскоре от этого развлечения Анетта решила отказаться. Она начала опасаться, но не того, что преподаватели, наблюдая за ней, в конце концов сочтут ее слабоумной (о, это как раз было бы забавно!). Нет, она боялась, что под влиянием самовнушения однажды действительно заснет на уроке, а это уж ей было ни к чему.
Анетта надела пальто и уже собралась выйти на улицу. Но здесь, у двери, она вдруг остановилась. Повернулась и оглядела коридор. Вроде все на своих местах: вазы с цветами, акварельные репродукции знаменитых картин на стенах, обожаемый завиток беломраморной лестницы. Анетта старательно всматривалась в эти предметы. Такие, как прежде, и вместе с тем… появилось во всем что-то новое. Она чувствовала себя так, будто прошла сквозь зеркало. И ей вдруг стало ясно – она свободна! Размышляя, почти с трепетом, над той легкостью, с которой была достигнута эта свобода, Анетта поняла, что Рингхолл наконец преподал ей важнейший свой урок. Она пошла по коридору назад, по пути заглядывая в пустые помещения, касаясь пальцами предметов, и ей верилось, что за знакомыми дверьми могут оказаться совсем незнакомые комнаты. Занимательное странствие привело ее в библиотеку.
Туда она вошла почти на цыпочках и обнаружила, что эта комната, как всегда, пуста. Вокруг было тихо. И, глядя на стеллажи, Анетта постепенно начала воображать, что это не просто библиотека, а книгохранилище в разбомбленном городе. И книги теперь никому не нужны. Никто за ними не явится. Пройдет время, стены окончательно разрушатся. И под струями дождя книги начнут погибать. Так почему бы не взять одну или даже две в виде сувенира? Тома в библиотеке колледжа стояли как попало, на них не было даже штампов. Анетта обследовала несколько полок. Пусть книги никто не позаботился упорядочить, зато они были как новенькие: чтение в Рингхолле среди популярных развлечений не числилось. Остановив свой выбор на оправленных в солидную кожу «Избранных поэмах» Браунинга, Анетта с томом под мышкой покинула библиотеку. Она чувствовала себя настолько счастливой, что готова была запеть. И запела бы, если бы не боялась разрушить то хрупкое очарование, которое словно магическим покровом окутало сейчас все вокруг и приказывало хранить молчание. С видом победителя Анетта огляделась по сторонам. Рингхолл теперь в ее власти!
Было два поступка, которые Анетта задумала совершить в тот самый день, когда оказалась в стенах школы. Первый – нацарапать собственное имя на бюсте Гринлинга Гиббонса[2], стоящем в общей комнате. Деревянный Гринлинг взирал на окружающих так важно, так напыщенно, что у Анетты просто руки чесались провести по нему ножиком… Податливое дерево так к себе и манило. Но когда дошло до дела, ей пришлось распрощаться со своим замыслом. И не потому, что уважение к славному имени вдруг проснулось в ней, нет, причина была иная – перочинный ножик куда-то запропастился. И второе – ей всегда хотелось покачаться на люстре, висящей в столовой. Анетта тут же направилась в столовую. Столы и стулья влачили там свое одинокое существование и, когда она ворвалась, встретили ее осуждающим молчанием. Анетта задрала голову – и сердце в груди у нее подпрыгнуло, как мячик. Люстра казалась огромной и висела как будто в поднебесье. Все это Анетта успела отметить раньше, когда внимательно изучала этот предмет. Учла она и наличие толстой металлической перекладины посреди люстры, за которую вполне можно ухватиться руками. Перекладина со всех сторон была обвешана крохотными хрустальными капельками; в каждой из них горела искорка чистого света, словно резвая волна расплескалась на бегу и брызги полетели вверх, да так и замерли навсегда под лучами солнца. Анетта предвкушала, что если удастся раскачать люстру, то музыка, скрытая в хрустальных подвесках, оживет, зазвенит колокольчиками. Мечты мечтами, но теперь она видела, что план осуществить будет не так-то просто.
В своих фантазиях Анетта всегда достигала люстры великолепным подскоком сБольшого Стола[3], но теперь поняла, что так вряд ли получится. Исполненная решимости, она вцепилась в один из столов и потащила его на середину комнаты. Потом водрузила на него стул. После чего начала взбираться. Но даже еще не поднявшись на стул, а только на стол, Анетта почувствовала, что земля как-то неприятно отдалилась. Она ведь страдала боязнью высоты. И все же, внутренне сосредоточившись, Анетта встала на стул. И вот здесь, поднявшись на цыпочки, она и ухватилась за перекладину. Затем, замерев на мгновенье, решительным движением ноги отбросила стул и повисла, вытянувшись между небом и землей. Еще несколько секунд с тревогой ждала характерного звука отрывающейся от потолка цепи, но, к счастью, цепь оказалась крепкой, да и Анетта была легкой как перышко.
Скомандовав самой себе: «пятки вместе, носки врозь», она движением от бедра начала раскачиваться, неторопливо, задумчиво, туда-сюда, туда-сюда. И люстра действительно зазвенела, но не оглушительно, как ожидала Анетта, а очень высоким и нежным перезвоном; и ничего удивительного: какого же звучания можно ожидать от морской волны, остановленной и превращенной в стекло? Именно такого хрупкого, похожего на тончайшую смесь звука и воздуха. Анетта была просто заворожена и этим перезвоном, и ритмом собственного движения. Постепенно она погрузилась в некий транс и, раскачиваясь, принялась воображать, как останется здесь до самого обеда, до того часа, когда обитательницы Рингхолла потянутся гуськом в столовую; вот они входят, чинно рассаживаются вокруг стола, вокруг ее болтающихся ног, обращая на нее внимания не больше, чем на какой-нибудь предмет обстановки…
В эту минуту дверь отворилась и вошла мисс Уолпол. Анетта от неожиданности разжала руки и, минуя стол, грохнулась прямо к ногам директрисы. Мисс Уолпол глядела на свою воспитанницу, слегка нахмурившись. Эта дама никак не могла решить для себя один вопрос: кто ей больше не по душе – созревающие девицы или маленькие дети. От последних, несомненно, шума куда больше, но верно и то, что справиться с ними зачастую куда легче.
– Встаньте, мисс Кокейн, – с усталым вздохом обратилась она к Анетте. Она всегда вздыхала, когда говорила, словно собеседник ее утомлял. Мисс Уолпол никогда ни о чем особо не заботилась, потому ее, в сущности, ничто не могло удивить. И вот это спокойное равнодушие как раз и обеспечило ей репутацию уважаемой директрисы.
Анетта встала, потирая ушибленное место. Ударилась она довольно чувствительно, но все же повернулась, поправила стол, подняла валяющийся набоку стул. Потом, взяв в руки пальто, портфель и том Браунинга, посмотрела на мисс Уолпол.
– Что вы здесь делали, мисс Кокейн? – со вздохом спросила мисс Уолпол.
– Раскачивалась на люстре, – ответила Анетта. Она нисколько не оробела перед директрисой, чьи притязания на моральное и интеллектуальное превосходство давным-давно считала тщетными.
– Зачем? – вновь спросила мисс Уолпол.
Анетта не знала, как ответить на этот вопрос, и поэтому прибегла к надежнейшему способу сокращения любого неприятного разговора – с готовностью произнесла:
– Я чрезвычайно сожалею о своем поступке. – И добавила: – Я решила оставить колледж.
– Позволено ли мне будет опять поинтересоваться: почему? – спросила директриса.
Она отличалась чрезвычайно высоким ростом, что, возможно, было косвенной причиной ее успешной карьеры; и хотя Анетта тоже была далеко не коротышкой, ей, чтобы взглянуть мисс Уолпол в глаза, пришлось бы запрокинуть голову. Желая выглядеть достойно, Анетта начала потихоньку отступать, чтобы сделать линию между ее глазами и глазами мисс Уолпол горизонтальной. Но в то время как она отступала, директриса, словно толкаемая сзади невидимой силой, приближалась, так что волей-неволей Анетте все же пришлось смотреть снизу вверх.
– Все, что я могла здесь узнать, я уже узнала, – сказала Анетта. – Теперь я буду учиться самостоятельно. Вступлю в Школу Жизни.
– Что касается вашего мнения, что вы здесь изучили все, то это чистейшее заблуждение, – возразила мисс Уолпол. – Стиль ваших развлечений определенно континентальный, и, как я уже имела возможность на днях заметить, по лестнице вы поднимаетесь по-прежнему совершенно неправильно.
– Я хотела сказать: всему, что я считаю важным для себя, я уже научилась, – пояснила Анетта.
– Кто внушил вам мысль, что в школе можно научиться чему-либо важному? – снова вздохнула мисс Уолпол. – Я полагаю, вы понимаете, – продолжила она, – что ваши родители внесли плату за обучение и стол до конца учебного года и о возврате этой суммы не может быть и речи?
– Ничего страшного, – ответила Анетта.
– Завидую легкости, с которой вы делаете подобные заявления, – сказала мисс Уолпол. – Что касается того института, который вы назвали Школой Жизни, то, если позволите мне такую дерзость, достаточно ли вы опытны, чтобы черпать из нее знания? Кстати, а это что такое? – и она указала на том Браунинга, который Анетта как раз засовывала в портфель.
– Это книга, которую я хотела бы оставить в дар библиотеке колледжа, – без запинки произнесла Анетта и протянула том директрисе. Та взяла его с некоторым сомнением.
– Красивый экземпляр, – сказала мисс Уолпол. – Мы вам благодарны.
– Я бы хотела, чтобы на книге появилась памятная надпись «Дар Анетты Кокейн». А теперь прощайте, мисс Уолпол.
– Всего хорошего, мисс Кокейн, – ответила директриса. – И помните: секрет всякого образования заключается в терпении; и любопытство – это не то же самое, что жажда знаний. Помните и то, что я всегда здесь.
Тут же решив все сказанное изгладить из памяти, Анетта попятилась к двери. Вихрем промчалась по лестнице и выскочила на улицу.
А там уж сразу же пустилась бегом. Но не потому, что хотела как можно быстрее удалиться от колледжа, а потому что всякий раз, когда чувствовала радость и волнение, просто не могла устоять на месте. Ее частенько видели устремленной вперед, едва касающейся земли, в кружении одежд, подобно богине Нике. Она носила две или три нижних юбки; и сейчас апрельский ветер подхватил их, и стройные ноги Анетты замелькали в этом калейдоскопе цветов. Дважды она уронила книжки и вынуждена была за ними вернуться. Трижды встречала что-то любопытное и шла задом наперед, пока оно не исчезало из виду. Возможности оглянуться Анетта не упускала никогда. Отец называл эту привычку ребячеством, а мисс Уолпол – отсутствием достоинства. Но ее брат Николас, которого она обожала больше всех на свете, говорил так: «Кто не оглядывается, тот упускает самое интересное». Ничего так не страшились Николас и Анетта, как пропустить это «самое» интересное. Отец смеялся и упоминал Орфея и Лотову жену. «Я бы на их месте тоже оглянулась, – отвечала Анетта. – Самое важное происходит у нас за спиной». «Беда в том, – возражал отец, – что ты хочешь быть сразу во всех местах. В один прекрасный день ты просто разлетишься на кусочки».
Начал накрапывать дождь. Пятясь, Анетта показалась из-за угла Квин-Гейт, по которой вдаль уходил какой-то чернокожий человек. Потом развернулась и побежала по Кенсингтон-Хай-стрит. Ей хотелось как можно скорее попасть домой, переодеться и оглушить новостью Розу.
– Теперь я сама себе хозяйка, – пробегая мимо «Баркера»[4], вслух произнесла Анетта. Да так громко, что две проходившие мимо дамы даже поглядели на нее с удивлением. Глаза Анетты были широко распахнуты, рот открыт, нижние юбки вращались, как карусель. Попытавшись по-жеребячьи брыкнуть ногой, она чуть не зарылась носом в землю.
Глава 2
Внизу с силой хлопнули дверью.
– У моей сестры дурные манеры, – сказал Хантер Кип.
Кальвина Блика сестра Хантера не интересовала. Она была уже далеко не юна, к тому же полновата. А Кальвина если и привлекали женщины, то исключительно длинноногие, бледные, изящные, с крохотными ступнями. Он присел на краешек стола, раскачивая ногами.
Хантера такая бесцеремонность разозлила.
– Обязательно сидеть на столе?
– Но где же еще здесь можно усесться? – с некоторым недоумением спросил Блик. И его вопрос был понятен. В комнате имелся всего лишь один стул, и тот был занят Хантером.
– На полу! – ответил Хантер.
Что ж, в этом тоже была доля правды. Кальвин опустился на пол и вытянулся там в позе каменного этруска, покоящегося на собственной могиле. Блик был долговязый, с бледными глазами, цвет которых вряд ли кому-либо удавалось запомнить.
– Непременно нужно лежать? – снова вспылил Хантер. Кальвин, растянувшийся на полу, раздражал его не меньше прежнего.
– На вас не угодишь, мистер Кип, – заметил тот. – Куда прикажете деваться?
– Можете прислониться к стене, – придумал Хантер. Кальвин сел и прислонился к стене.
– Грязновато у вас здесь, – поморщился он. – Смотрите, брюки все в пыли!
– У меня нет средств на уборщицу, – сказал Кип, – а Роза здесь не убирает. И вообще, она слишком занята на фабрике.
– Где? – удивился Кальвин.
– На фабрике, – повторил Хантер. – А вы не знали? И все оттого, что ее назвали в честь Розы Люксембург. Поэтому жизнь у нее так и сложилась, – произнес он с горечью.
– О, не стоит так обобщать, – возразил Кальвин. – Возьмем, к примеру, меня. Несмотря на имя, у меня все складывается недурно.
– Жалкая, крохотная фабричка, – вздохнул Хантер. – Выпускает какие-то валики и распылители для краски. Как все это скучно.
– Зато полезно, – заметил Блик. – В наши дни мы все оказываемся втянутыми в процесс производства, как заметил Сен-Симон. Но почему ваша сестра решила поступить на фабрику?
– Хочет быть поближе к народу и сделать свою жизнь максимально бесцветной, – хмуро пояснил Хантер.
– Относительно бесцветности жизни замечу, что большинство из нас добивается этого без особых хлопот, – сказал Кальвин. Ему хотелось вернуть разговор к тому пункту, от которого Кип ускользал: – Скажите, издательство помещается именно здесь?
– Да, – ответил Хантер, – тут у нас офис.
– Тогда ничего удивительного, что у вас такой ничтожный тираж. Плохи ваши дела.
– У нас все в порядке.
– Да вы почти банкрот, – возразил Кальвин. – И я просто не понимаю, почему вы так упорно отвергаете мое предложение. Кроме меня, вашим убыточным изданьицем вряд ли кто заинтересуется.
Кальвин не знал, что и подумать. На всем протяжении разговора Хантер не то чтобы стоял на своем, а просто не проявлял интереса. И все время косил глазами, как лошадь, куда-то вбок. Самое интересное, что Блик знал наверняка: его визави человек слабохарактерный. Кальвин никак не ожидал такого упорства. И теперь страстно хотел узнать, откуда что взялось.
– Я не желаю продавать то, что вы назвали «моим убыточным изданьицем», ни вам, ни кому-либо другому, вот и все, – произнес Хантер, отбросив назад свои длинные блондинистые волосы.
Ему исполнилось двадцать семь лет. И он относился к тому типу молодых людей, которых иногда именуют «хорошенькими мальчиками»: гладенькое личико и улыбка, то ли дерзкая, то ли жалобная. Он был миловиден и неряшлив и напоминал одновременно и студента, и маленького мальчика; последнего, пожалуй, больше. Хантер пошел в светловолосого отца, художника. А Роза – в темноволосую мать, которая была фабианкой.
– Она ведь даже не ваша, – сказал Кальвин, – «Артемида» эта. Формально и юридически журнал принадлежит вашей сестре, не так ли?
– О, юридически газета принадлежит целой толпе старых леди, которые в начале этого века боролись за права женщин. Именно они были первоначальными держателями акций. Многие из них до сих пор здравствуют и вовсе не собираются покидать этот мир. Когда наша матушка умерла, ее акции перешли к Розе. Да будет вам известно, что мужчины акциями «Артемиды» владеть не имеют права. Так записано в уставе. Но у Розы нет никаких особых прав. Она – рядовой акционер.
– Выходит, именно акционеры решают судьбу журнала? – тут же спросил Блик.
– Ничего они не решают, – возразил Хантер. – Потому что давным-давно позабыли о самом существовании «Артемиды». Долгие годы акции ничего не стоили. В положенный срок я давал объявление о собрании акционеров, готовил доклад и финансовый отчет, но никто не являлся. К тому же за последние двадцать лет характер «Артемиды» изменился настолько, что эти пожилые дамы вряд ли узнали бы в нем то давнее суфражистское издание. Теперь я один все решаю. «Артемида» – это я.
– А как же сестра? – поинтересовался Кальвин.
– Розе наплевать, – с досадой ответил Кип.
– Значит, не исключено, что акционерши были бы совсем не против продажи? – развивая мысль, сказал Кальвин. – В конце концов, они получили бы некую компенсацию за свои абсолютно бесполезные бумажки.
– Может быть, – пробормотал Хантер.
– Получается, вы один против сделки, – наседал Кальвин, – и я не могу понять почему. Процесс издания вам в тягость. Прибыли вы не получаете… и, судя по запущенности этогоофиса,скоро вообще все рухнет в тартарары.
– Никаких сделок, – заносчиво произнес Хантер. – Запомните, никаких. Я не собираюсь продавать «Артемиду» и свое решение не изменю. А теперь прошу вас удалиться.
Кальвин поднялся с пола и мрачным взглядом окинул Хантера. Он не собирался сдаваться и решил, что не уйдет отсюда, пока не выяснит, что же творится в голове у Кипа. Он проведет здесь весь день, если понадобится. Блик принялся ходить туда-сюда по комнате, на ходу пиная картонные коробки и кучи старых и новых выпусков «Артемиды», которыми был устлан пол.
– Прекратите, – поморщился Хантер, – пыль ведь столбом.
– Хотите, покажу вам фото своей матери? – спросил Кальвин. Это был его старый трюк.
– Не хочу, – ответил Хантер.
Но Кальвин все же извлек из нагрудного кармана пачку фотографий, отделил верхнюю и пододвинул Хантеру. На снимке виднелась стройная девица в черных чулках и туфлях на шпильках.
– Недурна, – промямлил Хантер.
– А здесь она осветлила волосы, – продолжил Кальвин.
На следующей фотографии блондинка вылезала из ванны.
– Хватит, – прекратил просмотр Хантер. – Интересно, откуда вы их берете?
Ходили слухи, что Кальвин Блик сам и мастерит эти снимки.
– Из семейного альбома, откуда же еще, – скромно сказал Блик. Ловким движением длинных веснушчатых пальцев Кальвин мгновенно сложил снимки, словно колоду карт. На пальцах у него красовались кольца. Он обожал эти украшения и часто их менял. Хантер взглянул на кольца с неодобрением. У него самого ладони были грязные и ногти подстрижены кое-как. В общем, собеседники с презрением смотрели друг другу на руки.
– Вы поймите, – вернулся к прежней теме Кальвин, – что помимо денег за акции, которые будут выплачены вашей сестре, определенную компенсацию получите и вы. И в определении суммы мы, я вас уверяю, будем открыты любым разумным предложениям. Мы возместим вам утрату издательских прав. Вы же получили образование, мистер Кип, вы социально защищены, не то что я…
– Не думаю, что вы так уж беззащитны, – язвительно возразил Хантер. Он всячески держался за возможность продемонстрировать свою непреклонность. Теперь он обратил внимание на брюки Кальвина, сшитые из эластика, и еще больше запрезирал его. В то же время у Хантера было немало причин опасаться этого человека. Ему хотелось, чтобы Блик ушел, и как можно скорее.
– Любопытно, сознаете ли вы, что скрежещете зубами, и довольно громко? – поинтересовался Кальвин. – Я знавал человека, страдавшего от такой же привычки. Так он, знаете ли, в конце концов стер свои зубы до корней. Безусловно, это симптом невроза. Фрейд в одной из работ пишет…
– Слушайте, Блик, – не выдержал Хантер, – ваш босс уже владеет тремя газетами, кучей периодических изданий и всеми теми безобразиями, которыми полон издательский рынок. Зачем ему понадобилась еще и эта несчастная «Артемида»? Почему бы не оставить нас в покое?
– Ему просто хочется владеть этим изданием, – объяснил Кальвин. – Хочется, и все.
– Ах, если ему хочется, то пусть придет сюда, – дрожащим голосом произнес Хантер. – Сам придет, а не посылает слугу.
– А! – вперившись в Хантера взглядом, воскликнул Кальвин Блик. – Ага!
Он что-то начинал понимать.