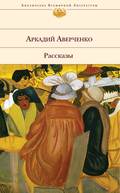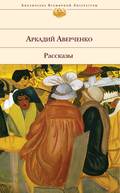Аркадий Аверченко
Шутка Мецената
Я не совсем благосклонно пожал плечами и по темной скрипучей лестнице поднялся следом за ним наверх.
Уселись. Выпили еще вина.
Только наш неожиданный, причудливый, призрачный Петербург может щегольнуть такой зловещей комбинацией: мрачная сырая комната без всякой мебели, кроме тяжелого стола, покрытого сырой дырявой скатертью, комната, где будто застоялся запах старого убийства; за окном густая, как кисель, сырая ночь, дышащая в лицо тифом, а против меня – тускло освещенный единственной свечкой человек, из опущенных углов рта которого вопияла смертная тоска, а глаза испуганно, умоляюще вонзались в меня с молчаливым криком: не умолкайте! Говорите о чем угодно, но не молчите!
Однако наступил момент, когда я совершенно иссяк и умолк, устало прикрыв глаза веками.
– Ваши родители живы? – вдруг спросил меня художник вне всякой связи с предыдущим разговором.
– Отец жив; мать умерла.
– Умерла?!! Неужели? А что ж вы с ней сделали, когда она умерла?
– Да что ж с покойницей делать? Как полагается – похоронили честь честью.
– А как?!! Как это делается? Расскажите!
Я невольно отодвинулся от него к окну. Мелькнула мысль: сумасшедший.
– Вы думаете, я сумасшедший? Даю вам слово – нет. Тут не то. Тут другое. Не знаю, поймет ли кто-нибудь меня…
Я решительно встал с места:
– Вот что, дорогой маэстро! Если вам мое общество приятно – вы сейчас же немедленно расскажете мне, что с вами такое делается! Если нет – сейчас же ухожу! Ну вас к черту с вашими истерическими вопросами и с тоскующими глазами птицы Гамаюн! В чем дело?
Он подошел к окну и, вперив в него лицо, долго вглядывался в серую слепую сырую слизь, которая в Петербурге пышно именуется «ночь».
Потом отвечал. Не мне, а этой унылой ночи:
– У меня умерла жена.
– Это огромное несчастье, – деликатно ответил я. – Но нельзя же быть таким… странным!
– Я знаю. Но у меня нет мужества вернуться домой… И потом – не смейтесь! – я не знаю, как это делается!!
– Что делается?!
– С покойниками. Первый раз в жизни. Пятые сутки брожу по трущобам. Дома не был.
– А жену когда похоронили?
– Не хоронил еще. Дома лежит. Слабое сердце. Получила телеграмму о смерти отца – не выдержала. Упала. Разрыв сердца.
– Безумец вы! Пять дней – и она лежит непогребенная?! Почему не похоронили?!
– Поймите – мы здесь одни жили: без друзей, без знакомых… Ну, вот – смерть. А как с ней обращаться, со смертью-то – не знаю. Первый раз в жизни. Ушел я из дому и… не могу туда вернуться. И страшно, и не знаю: что же делать с ней. Жену я очень любил – поймите. А там… ведь это обмывать как-то нужно, свечи разные. Псалтырь читать – откуда я все это знаю? Вот и отдаляю момент возвращения. Пью. Страшно там, поди. На полу так и лежит. Пять дней. И чем дальше, тем все страшнее пойти.
– Знаете что? Стол этот достаточно большой. Ложитесь-ка на нем до утра. А мне дайте ваш адрес, ключ, я все устрою – потом вернусь за вами, когда уже будет готово…
Он поглядел на меня, как на Бога, благоговейно сложив руки, и покорился во всем, как дитя. Лег на стол, положив под голову пиджак, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:
– Я над ней больше суток просидел. Пожалуй, даже не плакал – все смотрел на мертвое лицо. А когда обоняние мое почувствовало странный и неприятный запах, совсем жене не присущий, – испугался и убежал из дому.
Было уже светло. Я заехал к себе домой, захватил там квартирную хозяйку, старуху, очень понимающую во всех этих погребальных штуках, потом в участок, взял околоточного и доктора, вошли мы в мастерскую художника. Действительно, на полу лежит женщина, и первый, кто устроил ей погребальный обед, были крысы, порядком объевшие покойницу. Да… Нелегко дышалось и этой комнате!
К вечеру вся процедура была закончена, мастерская проветрена, покойница запрятана в мокрую зловонную трясину, именуемую в столице кладбищенской могилой, и я торжественно ввел во владение мастерской художника, терпеливо дожидавшегося меня в трущобе на Обводном канале. И что ж вы думаете? Когда он вошел в мастерскую, первым долгом поглядел на то место на полу, где лежала жена, благодарно поцеловал меня, пробормотал: «Сейчас буду писать ее в раю, куда она, я полагаю, попала», – и, как ни в чем не бывало, принялся загрунтовывать свежий холст. Писал до вечера. Это он хорошо делал. Потом я видел картину… Прекрасная! Этакая мистическая вещь. На выставке была.
Мотылек обвел удовлетворенным взглядом притихших слушателей и добавил:
– А что вы думаете, Меценат! Этот непрактичный художник, это Божье дитя любил «живую жизнь» еще больше, чем мы с вами!
– Ты меня обокрал, Мотылек! – печально улыбнулся Меценат. – Я хотел рассказать историю в том же грустном зловещем стиле, а ты меня опередил!
– О, милый Меценат, – поощрительно возразила Яблонька. – Вовсе не обязательно, чтобы история была веселая. Мотылек, например, очень угодил мне своим рассказом во вкусе Гойи. Начинайте и вы!
– Яблонька может вертеть мной, как ребенок погремушкой. Тряхнула – и я начинаю греметь. Позвольте мне назвать свою историю —
О СУМАСШЕДШЕМ, КОТОРОГО ОБМАНУЛИ
Два года тому назад проживал я летом в одном из своих имений… Река, сенокос, парк, огромный плодовый сад – хорошо! Приехал ко мне в гости приятель, кандидат прав – Зубчинский. Уселись мы с ним на веранде, увитой диким виноградом, играть в шахматы – оба были страстные шахматисты. Сбоку столик, на столике белое вино со льдом, ягоды, бисквиты – хорошо! Передвигаем фигуры, болтаем о том о сем, вдруг он, сделав удачный ход, на минутку призадумался, посмотрел на меня странными глазами и говорит:
– Что, если шахматного коня сеном накормить? Можно тогда партию выиграть?
Шутка была глупая. Я пожал плечами, снисходительно усмехнулся и говорю:
– Что за дикая мысль пришла тебе в голову?
– Нет не дикая! (И смотрит на меня нехорошими глазами.) Нет-с! Не! Дикая! Сено – великая вещь. Если теноров кормить сеном, они как соловьи будут петь! А вам все жалко?! Лошади у вас живут без сена – безобразие!
– Николай Платоныч, – испуганно говорю я. – Что это ты, от жары, что ли? Опомнись!
Завизжал он дико, пронзительно:
– Не потерплю! У самого сенокосы по пятьсот десятин, а он лошадей с голоду морит!! Во мне, может быть, душа лошади – и я страдаю! Подлецы!!
Волосы у него сделались влажными, стали дыбом.
Я его взял за руку, а он как обожженный отскочил, закричал, перекинулся через перила веранды и давай по клумбам сигать, точно жеребенок…
– Ход коня! – кричит снизу. – Видишь? Парируй, подлец!
Прыгал он, прыгал, наконец, очевидно, острый пароксизм прошел, утомился, притих, улегся на ступеньках веранды и принялся тихо, жалобно плакать.
Я долго стоял над ним в раздумье. Положение было жестокое и глупое. Что Зубчинский мой сошел с ума – я, конечно, не сомневался. Но что с ним делать дальше? Помешательство, очевидно, буйное. Связать его и запереть в сарай – жаль. Все-таки приятель. До ближайшего доктора двадцать верст, до губернского города, в котором была и лечебница для умалишенных, – около тридцати. Но как довезти его туда, этакое сокровище? Сумасшедшие необычайно подозрительны, хитры, и, конечно, мой Николай Платоныч сразу догадается, куда я его везу… А догадается – страшных вещей может наделать. Силища у них в этом состоянии непомерная – и Телохранителю, пожалуй, не справиться.
Пока я стоял так над ним в раздумье, приблизился мой управляющий – человек со светлой головой, бывший провинциальный актер, потянувшийся за мной на лоно природы. Он из окна своего флигеля видел, какие курбеты выделывал на клумбах мой кандидат прав, и поспешил на помощь.
Я отвел его в сторонку, посвятил в двух словах во всю эту глупую историю, спрашиваю:
– Что делать?
– Не иначе как в город везти нужно, в сумасшедший дом.
– Да ведь как его отвезешь-то? Ведь он тут все переломает и нас перекалечит.
– Хитростью надо взять.
Призадумался я – и вдруг, как птица крылом по воде, зацепилась у меня в мозгу мимолетная, но очень светлая мысль.
– Вот что… – сказал я. – Вы можете часа на четыре притвориться сумасшедшим?
Смотрит на меня управляющий умными глазами, ухмыляется:
– Конечно, могу. Актером я был неплохим.
– Ну и ладно. Попробую подловить на это беднягу. Сядьте-ка там за столом и скроите физиономию по возможности наиболее идиотскую. А я с ним поговорю.
А Николай Платоныч плакал, плакал и затих. Задремал, что ли… Сел я около него на ступеньки веранды, потряс его за плечо и говорю:
– Николай Платоныч, а Николай Платоныч! Поднял он измученное осунувшееся лицо и спрашивает:
– Что тебе?
– Послушай… У меня, брат, большое несчастне!
– А что такое?
– Мой управляющий с ума сошел.
В его тусклых глазах блеснул интерес.
– Да что ты? Гаврилов? С ума сошел? С чего же это он?
– А черт его знает. Понимаешь, стал уверять, что он нынче утром крысу проглотил.
– Вот дурак-то! Как же это человек может проглотить крысу?
– То же самое и я ему говорю! Никаких резонов не принимает – сидит внутри крыса, да и только!
– А знаешь что? Дай я с ним поговорю. Может, урезоню.
Подошел к управляющему. Стал разглядывать его с огромным интересом и сочувствием.
– Послушайте, что с вами случилось?
– Крыса внутри сидит. Нынче нечаянно проглотил.
– Ну, Гаврилов, голубчик! Подумайте сами: ведь это вздор. Как это человек может проглотить крысу? Ведь вы человек интеллигентный, знаете строение гортани, пищевода…
У моего Гаврилова лицо до того тупо-идиотское, что смотреть противно.
– Раз я вам говорю, что у меня внутри крыса, значит, она там. Вот приложите руку к животу – слышите, как скребет когтями внутри?
– Поймите, что никакое живое существо не выдержит температуры желудка…
– Не морочьте голову… Вы подкуплены хозяином. Плюнул Николай Платоныч, отошел ко мне:
– Форменный сумасшедший! Я ему логически доказываю, что не может быть живая крыса в человеческом животе, а он черт его знает что несет. Послушай… Давай его полечим, а?
– Чем же его лечить?!
– Покормим сеном. Живые соки, которые находятся в стебельках свежего сена, могут оказать очень благодетельное действие на серое вещество мозга. Понимаешь – сочное сено! Накормим его, а?
Я сделал вид, что размышляю.
– Сено, конечно, очень полезная вещь. Но как его дозирозать? Очень сильная доза может оказаться убийственной. Здесь без доктора не обойдешься.
– Так отвези его в сумасшедший дом, там его поставят на ноги.
– Я бы и отвез, но одному трудно. Друг Николай Платоныч, выручи! Давай его вместе отвезем.
– Послушай… А вдруг он догадается, куда мы его препровождаем?
– А ты с ним поговори. Соври что-нибудь. Николай Платоныч сомнительно покачал головой, приблизился к Гаврилову и сказал, хитро на меня поглядывая:
– Вот что, друг Гаврилов! Мы тут обсудили этот вопрос с крысой и решили вас везти в город на операцию. Раз крыса в желудке, нужно его вскрыть и извлечь оттуда инородное тело. А потом уж я буду долечивать вас сеном – согласны?
– Я боюсь докторов! Вообще же есть у меня один приятель – доктор, да он в доме умалишенных служит.
Глаза сумасшедшего радостно блеснули.
– Ну, вот мы вас к нему и отвезем. Конечно, знакомый доктор лучше!
Он подошел ко мне на цыпочках и подмигнул на Гаврилова с дьявольски лукавым видом:
– Все устраивается как нельзя лучше. Этот болван со своей глупой крысой внутри сам лезет в лапы психиатров. Вели закладывать лошадей – мы его живо домчим.
И вот, когда мы уселись в экипаж, нужно было видеть, с какой трогательной заботливостью относился настоящий сумасшедший к поддельному. Он закрывал ему ноги пледом, хлопотливо засовывал за жилет клок сена («Жизненная эссенция сена очень хорошо размягчает инородные тела внутри организма…»), изредка во время пути обращался к Гаврилову, сочувственно кивая головой:
– Ну, что, Гаврилов?.. Успокоилась крыса?
– Нет, ворочается, проклятая.
– Ах ты ж, история какая. Ну, потерпи, голубчик… вот привезем тебя, сделаем операцию – и все как рукой снимет.
Приехали. У ворот дома умалишенных Зубчинский заботливо помог Гаврилову выйти из экипажа и, деликатно поддерживая под локоть, стал всходить с ним по ступенькам лестницы.
Я шел сзади, а сердце отчего-то тоскливо ныло.
На наше счастье, в приемной находился в тот момент доктор с ассистентом и два здоровенных служителя в белых халатах.
– Чем могу служить? – деловито спросил доктор. Оставаясь благоразумно около входных дверей, я сделал незаметный знак доктору и сказал:
– Да вот приятель у меня захворал. Не можете ли вы его освидетельствовать?
– Понимаете, доктор, – развязно вступил в разговор Зубчинский. – Вообразил он, что в его животе сидит крыса, и…
– Дело, собственно, не во мне, – вежливо шагнул вперед, кланяясь и делая знак доктору, Гаврилов. – А мы привезли к вам господина Зубчинского…
Доктор опытным взглядом окинул лица обоих и сразу понял, в чем дело.
– То есть он шутит, – насильственно улыбаясь и странно дрожа, сказал заискивающе Зубчинский. – Если крыса действительно сидит внутри, то препарат свежего сена…
– Хорошо, хорошо. Но вы, господин Зубчинский, пока отдохните, вы устали с дороги. Уведите этого господина в восьмой номер!
Глаза Зубчинского странно округлились, он дернулся вперед, но четыре могучие руки уже клещами держали его сзади. Он увидел ясно сразу, все в один момент: Гаврилова, деловито что-то шепчущего на ухо доктору, и меня, отворачивающего от него смущенное лицо, меня, который уговорил его помочь, меня, который уже взялся за ручку двери, чтобы уйти, покинуть его.
И страшный, как лязг железа, стон прорезал застоявшийся больничный воздух:
– Обманули!!! Доктор, они меня обманули!! Погиб!! Не помня себя я выскочил из приемной, кубарем скатился с лестницы и опомнился только тогда, когда Гаврилов догнал меня на улице, усадил в экипаж и мы выехали снова на степной простор среди желтеющих полей. Гаврилов молчал, но, если бы даже он заговорил, я бы не слышал его голоса. Все заглушалось этим до сих пор звенящим в ушах пронзительным криком, в котором слилось все человеческое отчаяние, ужас, страшный упрек и огромное страдание при столкновении с подлостью людской:
– Обманули!!!
Рассказ произвел большое впечатление. После общего молчания лежащий около Яблоньки Новакович вздохпул своей могучей грудью так, что даже приподнялся корпусом, и сказал задумчиво:
– Эти две истории – ваша, Меценат, и Мотылька – навалились на меня, как две надгробные плиты. Я возлагаю большие надежды на Яблоньку в смысле освежения этой склепообразной скелетоподобной атмосферы. Рассказывайте что хотите, Яблонька, и если даже вы заткнете какой-нибудь иллюминатор дельфином, все равно окружающие будут в восторге.
Яблонька погладила нежной, как лепестки розы, рукой огромную голову белого медведя и, сжав значительно губки, погрузилась в задумчивость… Потом решительно тряхнула жидким золотом своих растрепавшихся волос.
– История моя так же коротка, – улыбаясь, сказала она, – как и случай с двуногой собакой, хотя я и не так ленива и односложна, как ее автор Кузя. Так как у нас уже установилось правило, чтобы давать рассказываемым историям заглавия, то моя история должна называться несколько легкомысленно —
СВЯЗАЛСЯ ЧЕРТ С МЛАДЕНЦЕМ
Два года тому назад жила я с родными на даче. При даче был небольшой парк, который непосредственно переходил в лес, отделяясь от него деревянным высоким забором. По сю сторону забора стояла скамья, на которой я любила сиживать с томиком Тургенева или Гончарова, пригретая солнышком, обвеянная смолистым ароматом деревьев…
Сижу однажды, читаю, вдруг – слышу за забором шорох. Сначала я подумала, что это пробирается кто-нибудь из гуляющих дачников, переждала немного, опять углубилась в чтение, вдруг ухо мое ясно уловило за забором чье-то дыхание. Человек всегда инстинктивно чувствует, что за ним наблюдают, и я это сразу почувствовала: за забором в щель меня кто-то разглядывал…
– Кто там? – строго спросила я. И вслед за этим услышала шорох чьих-то быстро удаляющихся шагов.