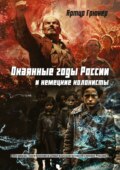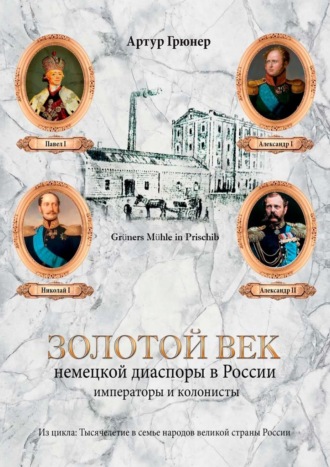
Артур Грюнер
Золотой век немецкой диаспоры в России. Императоры и колонисты
в судьбе Екатерины II
Первые годы после государственного переворота были временем, о котором Екатерина писала подруге, что «Орловы – это для меня все». И действительно, примерно первое десятилетие своего правления она могла быть уверенной в беспрекословной поддержке армии благодаря Григорию Орлову и его братьям.
Дворянский род Орловых взял свое начало от бывшего стрелецкого подполковника Ивана Ивановича Орлова. Этот стрелецкий начальник по прозвищу Орел, приговоренный к смертной казни, был прощен Петром I за храбрость, проявленную на пороге смерти. В дальнейшем он верой и правдой служил Императору.
Но сына своего Григория Ивановича он направил не в армию, а на государственную службу, и тот со временем стал Новгородским губернатором. В 51 год он женился на 24-летней дворянке Лукерии Ивановне Зиновьевой, которая подарила ему 9 сыновей, из которых выжили пятеро. Отец воспитывал своих сыновей по-спартански, тем более что этому способствовала унаследованная еще от деда природа. Все они были уже с юности богатырского телосложения, как на подбор высокими, стройными и крепкими парнями.
Все они поочередно, Иван, Григорий, Алексей, Федор и Владимир, были записаны отцом в Императорский сухопутный шляхетский кадетский корпус – военное училище для детей дворян (в то время называвшейся на польский манер шляхтой). Однако, в числе выпускников корпуса братья Орловы замечены не были, очевидно, по причине того, что они, неимоверно храбрые и честолюбивые, рвались на фронт, в действующую армию. Ведь шла Семилетняя война с постоянным противником Пруссией, надо было успеть отличиться, завоевать награды и признание.
Все они явились активными участниками государственного переворота и прихода Екатерины к власти, за что были ею возведены в графское достоинство. Наибольшую известность получил Григорий Орлов, тайный возлюбленный Екатерины, а после утверждения ее самодержицей, ставший ее официальным фаворитом.
Не закончив обучение в Кадетском корпусе, он в битве при Цорндорфе остался в строю после трех ранений, заслужив признательность в среде офицеров и солдат. Он возвратился в Петербург в свите плененного графа Шверина, личного адьютанта Фридриха II, и после некоторых любовных похождений (а чем еще заниматься гвардейцу вне войны?) попал в поле зрения созревшей для любви 30-летней и скучающей великой княгини.
Обеспечив приход Екатерины к власти, он в короткий срок занял самые высокие посты в армии и государстве. Он собирался жениться на Екатерине, для чего для него был исхлопотан титул князя Римской империи. Его желание жениться на государыне поддерживали все его братья, но при дворе были и трезвые головы, имевшие большой вес и такие же заслуги при восхождении Екатерины к власти, как и братья Орловы.
Таким властным вельможей был Никита Панин, руководитель внешней политики и наставник цесаревича Павла, активный участник возведения Екатерины на престол. На заседании Государственного Совета он по этому поводу заявил, что «Государыня властна выйти замуж, но госпожа Орлова никогда не станет Государыней», а когда Григорий Орлов начал по этому поводу возмущаться, то добавил, что и его могут «вздернуть». Подтверждением тому был назревший против Орловых заговор, известный как «дело Хитрово», заговор гвардейских офицеров против братьев Орловых в 1763 году. На улицах Москвы и Петербурга люди срывали со стен портреты императрицы и Григория Орлова, которого считали братом убийцы законного императора Петра III.
Отступив от мысли женитьбы Григорий Орлов старался пополнить свое образование, но все-же, по мнению самой императрицы, не преуспел в этом. Он не проявил себя как государственный деятель, не стал ее правой рукой, как позднее Григорий Потемкин, а был только проводником ее замыслов.
Как пишут историки, не отличаясь крупным умом, но мягкий и добрый, он поддерживал ее в благих начинаниях, особенно первые годы ее царствования. Он участвовал в Комиссии по составлению Уложения, был выбран в Маршалы (руководителем комиссии), но отказался от этого звания. «Не царское, мол, это дело – четыре дня в неделю заниматься говорильней». Да еще в этой глуши, в Москве. Лучше жить в соседней комнатке государыни и спать в ее обьятиях!
Но он был способен выполнять ее особые поручения. Так, в 1771 году он был послан Екатериной в Москву для борьбы с «моровым поветрием» – чумой, принесенной в Москву из Северного Причерноморья во время русско-турецкой войны. Умирало больше тысячи человек в день, что привело к чумному бунту с убийством архиепископа Амвросия. Толпа разграбила Чудов и Донской монастыри и стала громить богатые дома, карантины, чумные больницы. Григорий Орлов действовал умело и решительно и сумел ликвидировать чуму и навести там порядок.
Во время первой турецкой войны он выдвинул план освобождения Греции и настоял, совместно с братом Алексеем, на посылке флота в Средиземной море.
В 1772 году был направлен в Фокшаны для переговоров с турками, но выведенный из терпения двуличием турок, прервал переговоры, чем вызвал неудовольствие императрицы.
Ну что тут поделаешь?
Не дипломат он с натянутой улыбкой на лице, а простой русский рубаха-парень…
Он был 11 лет фаворитом императрицы Екатерины II, затем, получив «отставку», 43-летний Григорий Орлов женился на своей 18-летней двоюродной сестре Екатерине Зиновьевой. Брак был недолгим, через 4 года супруга скончалась от чахотки. Григорий помешался рассудком и тоже умер еще через 2 года в апреле 1783 года.
Его брат Алексей Орлов (1737—1808), генерал-аншеф. Как самый даровитый из братьев, был инициатором переворота 1762 года, удавшегося главным образом, как утверждают историки, благодаря его расторопности и распорядительности. В 1765 году он был командирован на юг для преупреждения готовившегося там восстания среди казаков и татар. С заданием успешно справился.
Был, по-видимому, больше дипломатом, чем касавчик младший брат.
Первая турецкая война застала его в Италии, где он находился на лечении.
При этом интересно, чем мог болеть этот, как бык здоровый, детина, чтобы ему надо было лечиться обязательно в Италии? Не иначе, как «французской болезнью», лечившейся в то время исключительно меркурием, то бишь, ртутью, которую надо было точно дозировать, а это могли лучше всех делать итальянские врачи, имевшие 2—3 вековой опыт лечения болезни, не знавшей границ и залетевшей в Россию вместе с увлечением дворянства галломанией, то есть, всем французским.6
А поправивший здоровечко в Италии Алексей Орлов направил в Петербург составленный им план действий против Турции в Средиземном море и был назначен руководителем всего мероприятия. В этой роли он оставался до окончания войны и достиг важных успехов. За победу над турецким флотом под Чесмой был награжден титулом Чесменский. В 1773 году он сумел заманить к себе на эхту и пленить самозванку княжну Тараканову.
После войны в связи с охлаждением Екатерины к брату он и к себе испытал ее холодное отношение. В 1775 году уволился со службы. Жил в своем Орловском имении, разводил лошадей (знаменитых Орловских рысаков путем соединения арабской, фрисладской и английской породы).7
Владимир Григорьевич Орлов (1743—1831) на 20 году был отправлен в Лейпциг, где в течение 3 лет занимался естественными науками. В 1766 году был назначен директором Академии Наук. Он содействовал научным экспериментам (Паллас) и заботился о русских студентах за границей. В 1767 году сопровождал Екатерину в ее путешествии по Волге, которое описал в своем дневнике. В 1775 году был уволен от всех дел и перехал в Москву.
Иван Григорьевич Орлов – старший из братьев, награжденный пенсией за государственный переворот 1762 года вскоре вышел в отставкау и жил в Москве или своих поволжских имениях.
Федор Григорьевич Орлов (1741—1796) генерал-аншеф. Юношей участвовал в Семилетней войне. После переворота 1762 года был назначен обер-прокурором одного из департаментов Сената. Во время турецкой войны участвовал вместе со старшим братом Алексеем в блистательной «Архипелагской экспедиции», кстати, оказавшейся совсем не блистательной, так как своей цели, освобождение греков из-под османской тирании, она не достигла.8
Глава 3
Екатерина II и «завоевание» дворянства
Екатерина II быстро познала, что опорой абсолютной монархии может быть только дворянство – класс собственников земли и крестьянства, к которому относится и гвардия, приведшая ее к власти. Политике опоры на дворянство она следовала всю свою жизнь, нисколько не заботясь о положении самого забитого, бедного и бесправного класса крестьянства, составлявшего абсолютное большинство населения. Она как огня боялась революции, как это произошло во Франции, противилась малейшим поползновениям ущемления своей власти конституционной монархией, которую предлагали передовые мыслители того периода, в частности, Никита Панин.
Ознакомительная поездка императрицы
по Волге
Для укрепления своего авторитета в высших кругах общества Екатерина II на шестом году своего правления предприняла ознакомительную поездку, так называемый «Волжский вояж», водным путем по Волге из Твери в Синбирск, который длился со 2 мая по 5 июня 1767 года. При этом посещение ею саратовских земель с ее колонистами даже и не планировалось, хотя смысл поезки, вроде бы, был «ознакомление с состоянием дел в Поволжье».
Это путешествие по Волге с посещением лежащих на пути городов на специально построенных речных судах представляло собой целую флотилию из одиннадцати больших и ряда малых кораблей и лодок с общим экипажем в 1122 человек «армейских и прочих флотских, солдатских и адмиралтейских чинов». Кроме своего окружения из высшего дворянского сословия императрицу сопровождали иностранные послы со своими свитами. Для сухопутного «шествия» Екатерины II и придворных вельмож из Москвы до Твери было приготовлено 300 «дорожных колясок». Специально оборудованные кареты везли гардероб, ширмы, приборы, аптеку.
К приезду императрицы на тверской верфи была полностью закончена постройка судов флотилии для путешествия, закончена отделка Императорского путевого дворца и у пристани была пришвартована парусно-гребная тринадцатибаночная, то есть, с двумя вспомогательными парусами и 13 парами гребцов, галера «Тверь», уже опробованная на пути от Твери до Казани и обратно ее строителем и капитаном. Эта галера была флагманским судном гребной флотилии, специально обустроенной для постоянного пребывания знатных особ: императрицы Екатерины II и двух фрейлин, капитана, а также командира галерного флота графа И.Г.Чернышова.
Сопровождать государыню во время ее путешествия в качестве командира «Твери» был назначен капитан 1-го ранга П.И.Пущин. Согласно составленногй им табели, в экипаже галеры состояли 1 штаб-офицер, 3 обер-офицера, 14 унтер-офицеров и 190 рядовых. Даже если учесть, что большая часть рядовых использовалась в качестве гребцов, то все-же эта команда представляла неплохой штат охраны «Ея Императорского Величества»!
Водный маршрут начинался от Твери и шел на Углич, Рыбную слободу и затем на Ярославль. В каждом городе императрица со свитой сходила на берег, останавливалась у губернатора или в специально построенном дворце, отстаивала молебен в местной церкви или соборе, посещала исторические места, знакомилась с предприятиями, принимала подданных, выслушивала пожелания и жалобы.
В Ярославле по случаю приезда императрицы был устроен бал, на котором «государыня была одета в русском ярославском платье и кокошнике». Праздник закончился феейерверком. А далее, разобрав споры местного купечества, императрица велела Сенату заменить ярославского воеводу Кочетова, так как он «по нерасторопности своей должность исполняет с трудом и не может способствовать восстановлению мира между купечеством».
При подходе флотилии к Костроме императрица прежде всего посетила Ипатьевский монастырь – «колыбель Дома Романовых». Здесь она слушала литургию, после чего обедала с местным духовенством и дворянством, расспрашивая их о легенде про Ивана Сусанина и о городе. Узнав, что «как город сей, так и его уезд не имеют никакого герба», Екатерина II отправила в тот же день письмо генерал-прокурору Сената А. А. Вяземскому: «Прикажите в Герольдии сделать городу и уезду костромской герб, коим намерена их пожаловать».9
И еще одно событие заслуживает упоминания. Как отмечают историки, речи генерала А.И.Бибикова и местного архиепископа Дамаскина по случаю приезда императрицы в Ипатьевский монастырь стали дополнительным публичным признанием Екатерины II как законной правительницы как продолжательницы династии Романовых со стороны, как духовной, так и светской элиты государства
В Нижнем Новгороде императрице был представлен местный изобретатель-механик Иван Петрович Кулибин, впоследствии приглашенный в столицу. По просьбе местных купцов она постановила основать Нижегородскую торговую компанию, указав «торговать им, чем за благо разсудят».10
В Казани императрица пробыла более, чем в иных городах, целых пять дней. Посетила Богородицкий монатырь, где слушала обедню и прикладывалась к Казанской иконе Божьей Матери, украсив ее и образ Спасителя бриллиантовыми коронами. У ворот монастыря она встретила 90-летнего генерал-майора Нефеда Никитича Кудрявцева, соратника Петра I.
В этом городе императрица каждый день принимала чиновников, представителей дворянства и купечества, офицеров, учителей, инородцев. Убедившись в лояльности мусульман, она подтвердила курс на облегчение их положения в стране. Она уравняла татарское купечество в правах с русским, дала разрешение строить мечети, ввести обучение некоторых категорий государственных служащих татарскому языку, а также утвердила положение о каменной застройке города.
Она посетила Болгарское городище и была возмущена тем, что древние сооружения были сломаны или перестроены несмотря на то, что Петр I, посетивший это городище в 1722 году, приказал сохранять памятники древности.
Конечным пунктом путешествия планировалась Казань, а водный маршрут до тогдашнего Синбирска был выбран для того, чтобы сократить обратный сухопутный путь. Отсюда императрица 8 июня выехала в Москву. Она спешила из-за известия об опасной болезни наследника Павла Петровича, которое получила во время путешествия.
Она не доехала до Саратовских колоний, да и ранее не планировала этого, что представляется политически верным шагом. Она сознательно окружала себя русскими государственными деятелями, и не могла позволить себе особое отношение к своим «соотечественникам», чтобы не вызвать зависти со стороны своего ближнего окружения.
Но граф Григорий Орлов вместе с членами «Канцелярии опекунства иностранных» были вынуждены продолжить путь до Саратова в «Саратовскую контору иностранных поселенцев» по делам немецких колоний в Поволжье.
Многие участники путешествия из свиты и встречавших ее лиц вошли в состав еще ранее задуманной и бывшей уже в фазе подготовки «Комиссии для составления нового Уложения», созванной уже через три недели, 31 июня 1767 года, а генерал-майор А.И.Бибиков (это он произнес в Ипатьевском монатыре проникновенную речь о достойной продолжательнице романовской монархии) был назначен ее маршалом (председателем). Город Синбирск в 1780 году в связи с реорганизацией административного деления Поволжья по предложению Екатерины II был переименован в город Симбирск.
Уложенная комиссия
Основными заботами Екатерины II в это время были меры по укреплению монаршей власти, и она опять предусмотрела подходящее мероприятие. Наиболее выдающимся государственным актом в этот период ее правления является созыв в Москве в июне 1767 года Уложенной комиссии, коллегиального органа для выработки и систематизации государственных законов. Проведением этого мероприятия она добивалась решения сразу двух целей. Она могла реформировать громоздкую систему управления и укрепить собственный авторитет в глазах широких масс населения.
Сами эти комиссии не были новыми для России, они созывались уже семь раз после первого Соборного уложения 1649 года. Но созванная Екатериной комиссия сословных представителей в 1767 году была наиболее масштабной и представительной. Задача этой народной комиссии была придать российскому абсолютизму видимость сословно-представительной монархии, что соответсвовало мировоззрению Екатерины, которой нравилась роль просвещенного монарха.
Так оно и получилось в глазах ее современников. На дворе уже была эпоха Просвещения, и высшие классы общества, как указывают историки, не могли не сознавать, что свод законов, принятый земским собором в середине XVII века, задолго до петровских преобразований, безнадежно устарел. Назрела необходимость перемен.
Призывались в комиссию представители разных сословий «не только для того, чтобы выслушать нужды и недостатки каждого места…, но и для заготовления проекта нового уложения» по заготовленному императрицей наказу.
Широту комиссии можно себе представить, если учесть, что в ней приняли участие 564 депутата. Из них 28 были от правительства, 161 от дворян, 208 от горожан, 54 от казаков, 79 от крестьян и 34 от иноверцев (татары, башкиры, черемисы). Депутаты привозили наказы, которые нужно было рассмотреть и решения по ним вносить в новое законодательство. Кроме большой комиссии были созданы малые комиссии по отдельным направлениям. Сама императрица в работе комиссии не участовала, но следила за ее работой.
Общественностью, собранной со всей империи, это событие было принято настолько восторженно, что уже на второй неделе работы именно этой комиссией было принято решение просить Екатерину II принять титул «великой, премудрой, матери отечества».
Вот так она, уже через шесть лет после прихода к власти, добилась всенародного признания, того, что хотела еще со времени, когда в Манифесте по поводу восшествия на престол, собственноручно приписала «по воле всего народа».
Историки отмечают недостаточную подготовленность вопросов и малопродуктивность работы комиссии, которая 18 декабря 1768 года, через полтора года, была распущена под предлогом начала войны с Турцией и тем, что многие депутаты должны были отправиться к войскам по месту службы. Только члены частных комиссий продолжали работу.
Некоторые положения, выработанные комиссией, вошли в «Учреждения для управления губерний Всероссийской Империи» от 1775 года, инициированное также Екатериной. По этому акту России предстояло еще сотни лет оставаться самодежавной монархией, опиравшейся на привелигированную верхушку (дворянство) и с совершенно бесправным крестьянством, составлявшем в сугубо аграрной стране абсолютное большинство населения.
Екатерина II, любуясь на себя как на «просвещенную монархиню», другого государственного строя, кроме как абсолютной монархии, не знала и не хотела знать. Вместе с тем, удивительно, как Екатерина умело лавировала и могла, в конце концов, завоевать доверие завистиков. А было их у нее достаточно, как в верховных кругах, так и среди простого народа.
Поездка в Крым и на Кавказ также подальше
от немецких поселенцев
Также не посетила Екатерина II своих колонистов на Волге и во время своего второго крупного путешествия по стране – посещения Крыма и Кавказа со 2 января по 11 июля 1787 года. Она могла хотя бы проездом побывать в поволжских колониях, но она выбрала более западный маршрут через города Смоленск и Киев. Наверняка потому, что в западной части страны лучше была развита дорожная сеть, а может быть и потому, что она боялась проявлять излишнюю близость к немецким поселенцам.
Автор убедился в возможности такой позиции, сравнив ситуацию в столице Среднего Урала после перестройки, когда в нем возникло общество немцев «Возрождение». На вопрос одного участника заседания этого общества, почему, мол, наш губернатор, сам по национальности немец, ни разу не принял участия в собраниях нашего общества, тогда как в соседней области губернатор уже несколько раз присутствовал и принимал живое участие в обсуждении проблем молодого общества, председатель объяснил ситуацию.
Он сказал, примерно так. Вы забыли, как еще недавно вас называли фрицами и фашистами? Вот также к нашему немецкому губернатору относятся завистники в коридорах власти. Они, не скрывая свою неприязнь, во всеуслышание между собой говорят, что мол, вот засел в самом высоком кабинете «фашист» и командует нами.
Самозванцы периода правления
Екатерины II
Кажется, ни при одном правителе Российского государства не было так много самозванцев, как при Екатерине II. За 34 года правления – 65 самозванцев, из них тридцать 30 «ея законных супругов Петров Федоровичей», оживших или каким-то образом избежавших смерти, но незаконно отлученных от власти. Каково было ей с завидной регулярностью, примерно один раз в полгода, выслушивать сообщения тайной канцелярии о том, что, вот, снова появился новый претендент на трон, обвиняющий ее в узурпации власти.
Было о чем задуматься вошедшей во власть, но вынужденной постоянно находиться настороже властной правительнице. И это еще в то время, как в Шлиссельбургской крепости находился законный император Иван VI, можно сказать, российский «человек в маске», но опять же по российским условиям больше «человек в каменном мешке».
Западные историки до настоящего времени не смогли выяснить, кто-же в действительности был этот несчастный из времени Людовика XIV. Считается, что французская история является всего лишь отличным литературным сюжетом, созданным Александром Дюма с подачи Вольтера. Российская история Ивана VI является подлинным фактом и величайшим позором российской истории периода дворцовых переворотов и женского правления. Это правдивая история и трагическая судьба младенца-императора Ивана VI Антоновича, правнука Ивана V, сводного брата и соправителя Петра I.
Он родился 12 августа 1740 года, и в пору дворцовых переворотов, уже в октябре того же года, был провозглашен императором при регентстве вначале герцога Курляндского Бирона, а затем его матери Анны Леопольдовны. Он провел в заточении практически всю свою жизнь и погиб при попытке освобождения его в возрасте 23 лет. Некоторые историки сообщают, что он четырьмя стенами каземата был доведен до положения полусумасшедшего. Другие уверены, что он был грамотен, читал библию и желал бы тихо и мирно жить в монастыре. В заключении его навещали все три монарха, правившие в это время, Елизавета Петровна, Петр III и Екатерина II, но никто из них не проявил милости к его судьбе.
Пока он был в заточении, предпринимались попытки освобождения и возведения его на престол. Последняя попытка обернулась для него гибелью. Он погиб, когда подпоручик Мирович попытался освободить его. Не знал подпоручик строгого и коварного приказа Екатерины II его стражникам Власьеву и Чекину – убить узника при попытке его освобождения.11
Существует конспирологическая версия, согласно которой заговор могла спровоцировать сама Екатерина II, чтобы избавиться от тени несбывшегося, но законного императора.
Восстание под руководством Пугачева
Но представлял наибольшую опасность для трона и создал огромнейшую разруху в стране Емельян Пугачев, безграмотный казак Донского казачьего войска. По подсчетам следователей после его поражения, родился он в 1742 году в станице Зимовейской Донской области, в которой примерно 110 лет тому назад (в 1630 году) родился другой предводитель широкого казачьего выступления, Степан Разин.
Емельян был младшим сыном в семье донского казака Ивана Михайловича Пугачева и его супруги Анны Михайловны. Пугачевы жили в Зимовейской издавна, унаследовав свою фамилию от деда Емельяна – Михаила Пугача. Семья принадлежала православной вере, как и большинство казаков черкасской малороссийской станицы, в то время, как большинство яицких и многие верхнедонские казаки были приверженцами старообрядчества.
Служба Пугачева в армии
В 17 лет Емельян был записан на казацкую службу вместо отца, ушедшего в отставку. Еще через год он женился на Софье Дмитриевне Недюжевой, казачке станицы Есауловской. Через неделю после свадьбы Емельян был включен в команду казаков, направленных в Пруссию. Участвовал в Семилетней войне 1756—1763 годов, со своим полком состоял в дивизии графа З.Г.Чернышева. Походный атаман донских полков полковник Илья Денисов взял его к себе в ординарцы. За три года службы в Пруссии он побывал в Торуне, Познани, Кобылине, участвовал в ряде сражений, избежав каких-либо ранений. Но не избежал и наказания плетьми за то, что однажды во время ночной тревоги упустил лошадь начальника.
Со смертью Петра III войска были возвращены в Россию, и Пугачев проходил службу в своей станице. Здесь родились его дети: сын Трофим и дочери Аграфена и Кристина. Спокойная служба дома прерывалась командировками, как, например, в Польшу для поиска и возвращения в Россию бежавших старообрядцев.
После начала русско-турецкой войны в 1769 году Пугачев в офицерском звании хорунжего был направлен к Бендерам. При взятии Бендер в 1770 году войсками генерала Петра Панина отличился и хорунжий Пугачев.
И здесь один из офицеров имел неосторожность сказать хорунжему Пугачеву: «Ах, как же ты похож на покойного императора Петра Федоровича».
Хорунжий эти слова запомнил, а через некоторое время встретился с недовольством Яицких казаков тем, что вместо выборных атаманов центральные власти стали войсковых атаманов назначать. Кроме того, ему рассказали, как жестоко было подавлено восстание Яицкого казачества весной и летом 1772 года. Тогда он решил, что может собрать народную армию и свергнуть правительство самозванной иностранки.
Но время для выступления еще не пришло. После отвода войск на зимние квартиры в Елисаветград Пугачев заболел («гнили у него грудь и ноги»). В дальнейшем рубцы после язв на груди он выдаст своим сообщникам за знаки монаршего происхождения. От лечения в лазарете отказался, лечился народными средствами и вследствие уклонения от службы оказался беглым казаком.
Во время своих скитаний с несколькими поимками и побегами он часто встречался с казаками различных станиц, в большинстве своем староверческими. После более чем года такой жизни, он в августе 1772 года получил, наконец, предписание на поселение в Малыковскую волость на Волге.
Восстание Яицкого войска
Приехав на место, он в старообрядческом ските Введения Богородицы встретился с игуменом Филаретом, главой старообрядческой общины на Иргизе, левом притоке Волги. От него он услышал о недавних волнениях в Яицком войске. О Господи, не волнениях, а настоящем восстании с расстрелом людей, женщин и детей из пушек картечью, с убийством женщинами высланного на усмирение восстания генерала Тотлебена, с осуждением на колесование и виселицу, а также высылку в Сибирь, многих десятков казаков с семьями. Это была настоящая война Яицкого казачества за свои старинные справедливые, как они считали, устои, поколебленные центральной властью.
Московское правительство переселяло казаков в зависимости от политической ситуации на новые пограничные рубежи, что вызывало их неудовольствие, но главное, у них отняли право выбора старшин, заменив его назначением их сверху. Это привело к тому, что казачество разделилось на «старшинских» и «войсковых». Первые были начальниками, вторые – рядовыми, и это привело к злоупотреблениям властью и назаконному обогащению «старшины». Так, во время весеннего лова рыбы простые казаки сетовали на то, что «старшинские привозили до 30—40 возов рыбы, а рядовые – только 2—3 воза». Разница существенная, и она была бы невозможной при старой системе избрания старшин.
Во время посещения Пугачевым Яицкого городка участники недавних событий рассказывали ему, выдававшему себя за купца, об обидах, терпимых казаками от правительства и «старшинской» стороны, о преследованиях скрывающихся казаков и о строгих приговорах им при их поимке.
«Я вить не купец, а государь Петр Федорович»
Когда речь дошла до того, что имеются слухи о том, что на Волге объявился спасшийся государь Петр III, Пугачев вдруг заявил: «Я-де вить не купец, а государь Петр Федорович, я та-де был и в Царицыне, та Бог меня и добрыя люди сохранили, а вместо меня засекли караульного солдата, а и в Питере сохранил меня один офицер».
О том, что Пугачев выдал себя за императора Петра III, на него было донесено. Он был арестован и доставлен в Казань, где был приговорен к наказанию плетьми и пожизненной каторге в Пелыме. Пока приговор утверждался в Петербурге, он сумел снова бежать и перебраться к яицким казакам, где сумел установить контакт с оставшимися в живых участниками Яицкого восстания.
Некоторым он даже открылся в том, что он самозванец, но это для озлобленных людей не имело значения, им нужен был убедительный повод к тому, чтобы поднять народ и вернуть старые порядки. Его сподвижники выдали ему войсковые знамена, которые удалось сохранить во время восстания.12
Понимая, что он, неграмотный, может быть быстро разоблачен, он призвал к себе грамотного казака в качестве писаря, которому диктовал свои «царские указы», не подписывая их, как он говорил, до взятия его армией Санкт-Петербурга.
Надо сказать, что «Декрет о вольности дворянству» Екатерины II создал серьезную оппозицию правительству со стороны низших слоев общества. Крестьянство оставалось закрепощенным и бесправным у господ-дворян, казаки были недовольны утратой «вольностей», среди монастырских крестьян ходили слухи о предстоящей секуляризации, что создавало неуверенность в будущем, росло недовольство среди приписанных к заводам горнозаводских крестьян.
Начало восстания
Восстание началось в сентябре 1773 года, когда на хуторе перед 40 заговорщиками был зачитан «царский указ». На следующий день Пугачев во главе 60 человек выступил на Яицкий городок, и еще через день у него было уже около 200 человек.
Он понимал, что для штурма сил недостаточно, поэтому, как сообщается, казнив 11 казаков, не пожелавших признать его «царем», двинулся вверх по течению Яика, собирая в свою армию недовольных.
Он провел казачий круг, на котором были избраны руководители восстания, а еще вскоре были взяты близлежащие крепости. Это было несложно, так как казаки сами переходили на сторону восставших.
Обещание народу «земель, пороха и соли»
Сразу же началась вакханалия с изощренным убийством комендантов крепостей, офицеров и дворян, насилием и грабежами. После указа «царя» с обещанием татарам, башкирам и калмыкам земельных владений, пороха и соли, восстание стало распространяться со скоростью степного пожара. Восстание быстро охватило весь Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее Поволжье.