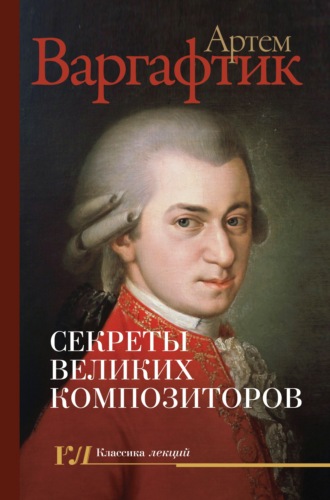
Артем Варгафтик
Секреты великих композиторов
Пьеса будет поставлена в Париже в 1872 году, но на самом деле это не что иное, как генеральная репетиция к следующей, главной истории, что тремя годами позже обессмертит имя Бизе, хотя и обойдется ему по самой дорогой, нереально высокой цене. История будет называться Кармен, и здесь уже все готово к ее трагической развязке. Обе истории заканчиваются практически одинаково. Среди ослепительно яркого народного праздника сводятся счеты с жизнью, поскольку тот узел, что в ходе драмы завязался – и музыкальный, и человеческий, и драматический, по-другому распутать невозможно, можно только разрубить. Кармен обойдется Бизе очень дорого. Он заплатит за нее жизнью. Но после нее все забудут о нем как о подмастерье. Он так и останется Мастером.
Рихард Вагнер
Еще раз о «грязных технологиях»
Как только начинаются серьезные разговоры об оперном искусстве, у всякого, кто слышит эти разговоры со стороны, возникает стойкое ощущение, что он присутствует при диалоге экономистов, обсуждающих какое-то безнадежно запущенное и разоренное хозяйство. Всякий, кто предлагает хоть какой-то выход из трудного положения, сразу называется реформатором, хотя чтó именно требует реформирования, из какой беды нужно искать выход – неясно. У иных даже закрадываются подозрения, не является ли эта вечная сага следствием каких-то неустранимых внутренних дефектов оперы как жанра… Но оставим на время подозрительность.
Вильгельм Рихард Вагнер тоже, разумеется, считается реформатором оперы, более того – одним из главных. В этом сходятся между собой все знатоки, даже если они ни в чем другом не готовы друг с другом согласиться. Что он в действительности совершил на этом поприще – вопрос, который немедленно вызывает новые вопросы, куда более многочисленные, куда более тяжелые. Например, почему все тоталитарные режимы века двадцатого так любят вызывать патриотический подъем среди своих граждан именно музыкой Вагнера? Почему те, кто творит черные, кровавые и страшные дела руками других людей, всегда используют именно музыку Вагнера в качестве сильнодействующей анестезии, то есть обезболивающего средства? Почему именно с музыкой Вагнера связаны самые позорные, отвратительные, мерзкие истории – нацизм, этнические чистки, партийные съезды НСДАП в Нюрнберге, чернорубашечники и т. д.? Скомпрометировать можно любого классика, и это не так уж и трудно, но почему именно на Вагнера история каждый раз выдает нам компромат таким огромным и страшным списком? Чтобы на этот вопрос ответить, нужно, вероятно, спросить у самого Рихарда Вагнера, а не у тех, кто за него горой, и не у тех, кто против него. Спросим же у самого Вагнера.
А для этого недостаточно просто прочесть в энциклопедии три строчки, где, конечно же, написано, что Вильгельм Рихард Вагнер – величайший оперный композитор. Если бы самого Вагнера спросили, то из этих трех слов только одно он признал бы безоговорочно правдивым – слово «величайший», потому что всегда был о себе только такого мнения. Вот «оперный» и «композитор» – это, с его собственной точки зрения, чистейшее вранье. Опера – это безобразие, и Вагнер в этом был убежден всю жизнь. Он фанатично требовал срыть до основания, уничтожить, запретить оперные театры как рассадники порока и бездуховности. Собственно, даже не сами театры, а гнусное зрелище итальянской оперы, которое он ненавидел, и даже запрещал называть свои сочинения операми. Почему? Опера, на его взгляд, это такое место, куда люди ходят послушать «музычку» и развлечься. Они обращают внимание на интересные арии, на высокие ноты певцов, красивые мотивчики и при этом совершенно не следят за действием, иногда хмыкают между ариями, аплодируют, кричат «браво», вообще ведут себя крайне развязно и возмутительно.
Его сочинения – это музыкальные драмы, забудьте слово «опера». Дальше, кто вам вообще сказал, что Вагнер – композитор? Опять энциклопедия? В Полном собрании его сочинений 16 томов партитур (они действительно записаны нотами, но это еще ни о чем не говорит) и 17 томов литературных трудов – это книги, не считая переписки и собственно либретто, то есть тексты, на которые Вагнер писал музыку. А к своим музыкальным драмам тексты он всегда, естественно, сочинял сам.
Если бы ему сказали, что он композитор, он, естественно, обиделся бы. Потому что на самом деле музыка находится далеко не на первых ролях среди всех тех вещей, которыми он занимается: он – поэт, драматург, демиург – как угодно. В своих собственных глазах он – создатель огромного «всеобщего произведения искусства», это так и называется по-немецки одним длинным словом «Gesamtkunstwerk». Если бы вагнеровская идея осуществилась, то все остальные искусства немецкому народу были бы просто и даром не нужны. Зачем? Все уже есть, все уже сказано. Нужно собираться, внимать и благоговеть. Поэтому если вы называете Вагнера оперным композитором и, главное, если вы слушаете просто красивую симфоническую или вокальную музыку, не обращая внимания на то, что происходит в этот момент на сцене, что написано у него в тексте, – вы как минимум не правы. Вы нарушаете самое первое и самое важное правило, которое сам же Вагнер для себя и установил, вы просто плюете на это правило. Ему бы это не понравилось.
Миром правят идеи, а не ноты или гармонии – это всем известно. В каждом следующем шедевре Рихард Вагнер обязательно вводит какую-нибудь новую технологию внушения своих идей. И надо сказать, что эти технологии почти никогда не повторяются. В каждой из них привычные оперные персонажи меняют свой облик практически до полной неузнаваемости, как в кривом зеркале. Вот, например, знаменитая история, обошедшая в свое время все первые полосы немецких газет. Лоэнгрин – опера о светловолосом и голубоглазом рыцаре. Он на лебеде приезжает на сцену и спустя четыре часа на лебеде же ее и покидает. Тенор, поющий титульного персонажа, это, казалось бы, нормальный первый любовник – естественно, в опере не может не быть первого героя-любовника, это очевидно. Но Вагнер превращает его в настоящего сверхчеловека.
Собственно, Лоэнгрин – это и есть первый супермен во всем мировом искусстве, если мерить его мерками нового европейского оперного искусства. Он спасает героиню от смерти, но взамен требует, чтобы ему не задавали никаких вопросов, слепо, безоговорочно подчиняясь и повинуясь. Как только Лоэнгрину задают простые вопросы (кто он, откуда и как его зовут), тут же выясняется, что жалкие, ничтожные люди не оправдали его доверия, они не дотянули до уровня сверхчеловека, и несостоявшийся спаситель покидает сцену – и героиню, которая, конечно же, этого не переживет. Но взамен он в самую последнюю минуту oперы приводит нового правителя-тирана. И можно только догадываться, что будет, когда наступит эра этого сверхчеловека. На самом деле Лоэнгрин – это не что иное, как попытка заменить знаменитого спасителя, распятого на кресте, Иисуса из Назарета, «нашим», стопроцентно немецким, арийским, а стало быть, светловолосым и голубоглазым спасителем, который когда придет, то мало не покажется.
Еще одна технология была блестяще отработана Рихардом Вагнером в Тристане и Изольде. Ею заслушивались, от нее сходили с ума – и до сих пор некоторые сходят с ума от этой музыки и от этого действия. Но, как правило, публика терпеливо поглощает этот шедевр, почему-то не разбирая слов. И не особенно разбираясь в череде оперных событий. А ведь для чего-то нужны были все эти длиннейшие и сладчайшие гармонические изыски, блуждающие сумерки любовных дуэтов, «тристановы аккорды»… Что-то же Вагнер хотел этим сказать, причем у него в нотах аккуратно написано, чтó именно.
Два человека любят друг друга. Любят безумно и обреченно. Однако вместо того чтобы делать именно то, чего они хотят (то есть – быть вместе), они сначала примерно час обсуждают смерть и ночь (этот любовный дуэт занимает практически все второе действие), затем, в третьем действии – Тристан в течение часа лежит, умирая на берегу, дожидается наконец прибытия корабля Изольды, умирает непосредственно у нее на руках, после чего Изольда объясняется в любви уже мертвому Тристану и в порыве высшего самоотречения испускает дух. И все вроде бы счастливы. Наступает то самое просветление, которое называется по-гречески словом «катарсис» – то есть очищение состраданием и страхом. В этом смысле слово «катарсис» употреблял небезызвестный Аристотель, хотя дословно оно может переводиться и гораздо конкретнее: «очистительная клизма». Однако Вагнер не был бы Вагнером, если бы не проявил здесь, как и везде, одно из главных свойств своего характера.
Он не жалеет трудов и сил на выписывание каждого аккорда, каждой фразы, каждого стиха, на любовную отделку и доведение каждой страницы до совершенства. Но за свое «творческое бескорыстие» он требует от вас не просто расслышать все, что написано, а еще и подчиниться его внушению: причем сначала подчиниться, сомлеть, а уже потом отдать себе отчет в том, что2 именно вы с таким восторгом проглотили.
Превосходство арийской расы – вот та грандиозная идея, которая здесь внушается. Чем же арийская раса (высшая раса, с точки зрения Вагнера) столь выгодно отличается от всех остальных? Способностью сознательно страдать, способностью к высшему самоотречению, никак не обоснованному логически и ничем, кроме внутреннего стремления к духовности, не мотивированного. Согласно подхваченной и сильно усовершенствованной Вагнером расовой теории, превосходство истинного арийца состоит именно в том, чтобы побороть в себе эгоистическое желание жить, столь свойственное… нет, не человеческой природе, а представителям низших рас. Поэтому любовь любовью, а жертвенность и самоотречение в сто раз важнее. Бред? Не без этого, но не спешите. Эта – политическая по сути – технология еще много раз пригодится Вагнеру. Она еще выстрелит в его будущих шедеврах.
А теперь представьте себе, что будет, если все вагнеровские технологии, изобретения, новшества собрать в одном месте, как бы в один кулак, и нанести этим кулаком один настоящий удар по сознанию и ушам слушателя? Мы имеем возможность заглянуть в творческую лабораторию мастера и посмотреть, как Рихард Вагнер готовился к этому удару и как он его нанес. Тем более, что он оставил об этом подробнейшие сведения.
Во-первых, берется сверхчеловек, супергерой, которому можно все. Судя по вагнеровским партитурам, он обладает практически ничем не ограниченными правами (в том числе и правами совершать труднообъяснимые, нелогичные поступки). Берутся некоторые приключения из древнегерманских и скандинавских сказаний о Сигурде, кстати, супергероя у Вагнера зовут почти так же – Зигфрид (победитель мира). Он наделяется всеми возможными и невозможными преимуществами истинных арийцев, то есть тем, что немецкие национал-социалисты отразили в своей расовой теории. Эти преимущества, естественно, дают возможность для многих сюжетных комбинаций и подтасовок, но вот главное: великий герой гибнет в результате заговора темных сил. Это не последняя, но, может быть, самая серьезная политическая технология, которой Вагнер владеет как никто другой, – пугать слушателя и зрителя неким страшным мировым заговором. И эти темные силы, которые существуют только для того, чтобы уничтожить цвет и надежду арийской расы, по собственным же вагнеровским словам и ремаркам (он открытым текстом этого требует), должны иносказательно, аллегорически олицетворять неарийские народы. Больше всего они должны быть похожи на тех, кого Вагнер особенно ненавидит, причем ненавидит животной, зоологической ненавистью, например, евреев. И в результате смешения этих четырех (а на самом деле куда большего числа) компонентов получается культовая вещь национал-социализма. И самый главный вагнеровский шлягер (а слово «шлягер», как известно, происходит от немецкого глагола schlagen – ударять) – это Траурный марш из четвертой серии знаменитой супердрамы Кольцо нибелунга, которая называется Гибель (точнее говоря, сумерки) богов. Восемь минут инструментальной музыки, под которую по сцене медленно носят тело только что убитого Зигфрида.
Под этот марш во время Второй мировой войны по германскому радио зачитывались сводки о людских потерях вермахта. Под этот же самый марш выступал по радио и министр пропаганды Третьего рейха доктор Йозеф Геббельс. Это известно, хотя Вагнер, естественно, этого не знал. Вагнер знал другое. В эти восемь минут инструментальной музыки помещается практически вся жизнь погибшего героя. Это, по сути, дайджест тех событий, сухая выжимка тех тринадцати или четырнадцати часов музыки, которыми нагружена до отказа драма Кольцо нибелунга. И здесь самое любопытное – следить за приключениями «мотива смерти».
Не будем углубляться в толщу так называемой системы «напоминающих мотивов», на которой держится удивляющая многих способность Вагнера генерировать бесконечно длинные оперные и сценические тексты – это дело верных своему кумиру музыковедов, и оно давно сделано. Вычленены более ста узнаваемых элементов-ярлычков, которые соответствуют не только конкретным предметам, находящимся на сцене (вроде копья, рога, проклятого кольца и других деталей реквизита, с которым каждый раз мучаются современные оперные режиссеры), но и отвлеченным идеям.
Факт тот, что по ходу пьесы мотив смерти из жуткого, бьющего по ушам символа страха на наших с вами глазах превращается в ликующий апофеоз, в одну из мощнейших кульминаций всего Кольца – и всей вагнеровской музыки.
К этому Траурному маршу, как к ключевой, очень важной точке, сходятся все нити огромной драмы. И вот здесь, когда мотив смерти так явно торжествует, выясняется, что за культ создавал Рихард Вагнер всей своей жизнью. Создавал грандиозным напряжением усилий одного человека – это были усилия драматурга, поэта, режиссера, художника и музыканта. Это – культ человеческих жертвоприношений. Это вера и внушение веры в то, что смерть одного человека может решить проблемы всей арийской расы и утвердить ее ценности. Вот ради чего Вагнер все это затеял. Вот почему он – незаменимый человек для тех, кто в XX веке делал самые страшные кровопускания человечеству и тоже утверждал, что это необходимо для победы «добра над злом» и утверждения высших целей.
Излишне напоминать, что в первой же книге Библии очень подробно описана история о запрете человеческих жертвоприношений. Людей ни при каких обстоятельствах нельзя приносить в жертву – на этом построена вся человеческая мораль и человеческая цивилизация. В тот момент, когда праотец Авраам был готов убить своего сына Исаака, чтобы таким образом продемонстрировать свою безграничную верность Творцу, Бог остановил его руку, и человеческие жертвоприношения с этого момента были категорически запрещены. Вагнер же настаивает на том, что именно такая искупительная жертва является «венцом творения», по крайней мере, венцом его собственного творчества. Вот и судите, где правда.
Безусловное и безоговорочное деление людей на «наших» и «не наших». Безусловное превосходство арийской расы над всеми прочими расами и народами, которое позволяет к любым неарийским расам и народам относиться как к грязи под ногами. Безусловное превосходство сверхчеловека, супергероя, которому можно всё, который всегда безусловно прав, даже если он убивает, бесчинствует и всячески нарушает общепринятые правила человеческого поведения. Теория заговора «темных сил», которая, опять же, безусловно требует всех бояться и каждого в этом заговоре подозревать. Наконец, оправдание человеческих жертвоприношений – вот те технологии, которыми Вагнер пользуется для того, чтобы внушить свои идеи тем, кто слушает его музыку. Вот те отмычки для человеческих мозгов и душ, которые он придумал и блестяще опробовал в своих шедеврах.
Можно, конечно, делать вид, что мы выше этого, что нас приемы сочинителя не касаются, а интересует только результат, – так многие и делают, а напыщенные крупногабаритные певцы с манной кашей во рту в этом очень помогают. Но удовлетворяясь только нотами, мы с вами никогда не поймем, почему на нас так сильно воздействует эта музыка. Надо просто внимательно читать (без купюр и цензурных ограничений) и внимательно слушать то, что он говорит, а не то, что говорят о нем. Ведь если Вагнер человек честный, его вряд ли устроило бы бестолковое восторженное аханье людей, которые понятия не имеют на самом деле, чем они восторгаются. Так, значит, давайте, независимо от мнений и толкований, предполагать в авторе хотя бы элементарную честность.
Нужен вывод? Извольте. Даже два: правильный и неправильный.
Неправильный вывод состоит в том, что людоедские убеждения нашего любимого Вильгельма Рихарда Вагнера неизменно «стоят за спиной» практически у всех нот и слов, которые есть в его сочинениях, – и если хоть чуть-чуть разобраться, тут же выяснится, чем слова и ноты вдохновлены. Правильный звучит несколько жестче. Для самых важных вещей, которые сделал Вагнер в своей жизни, эти действительно людоедские убеждения – становой хребет. А попробуйте вынуть хребет – позвоночник то есть – из самого страшного крокодила: останется только пустой мешок у ваших ног. Пусть и крокодиловой кожи.
Франц Йозеф Гайдн
Господин стандарт
Герой этой истории, без всякого преувеличения или ложного пафоса, может быть смело признан родным отцом для всей классической музыки и для всех ее несгораемых партитур. Дирижер Геннадий Рождественский как-то заметил, что в сознании самого широкого – и самого обыкновенного – слушателя есть два предмета, которые наиболее прочно и традиционно с этим именем связаны. Во-первых, это гипсовый бюст человека с большим носом и в напудренном парике с буклями – то есть, если вам попадается где-нибудь гипсовое изображение музыканта с носом и с буклями, то можно даже на черты лица не смотреть, как правило, это – Гайдн, вы не ошибетесь. И второе: это большая папка для нот на тесемочках, на которой нарисован тот же самый носатый профиль и написано по-французски: Musique. Однако два этих предмета нам помогут меньше всего, поскольку к Йозефу Гайдну мы отправимся в гости. И хотя он явно из тех людей, которым – «где хорошо, там и дом», есть все же на карте Европы такое местечко, где его походку до cих пор помнит каждый камень на мостовой и знает – по-настоящему, в лицо, без париков и гипсовых носов, каждый прохожий. Это примерно полсотни километров от Вены и совсем близко от венгерской границы – уездный городок Айзенштадт. Но, впрочем, не будем туда очень спешить, не побывав в самой Вене: ведь Гайдн же не уездный, а мировой классик, если нам правду в школе говорили.
В жизни нашего героя было очень много всякого везения, но вот история, где ему действительно здорово повезло, – может быть, первая и явно не последняя в этой серии. Конечно, как и все местные классики, Гайдн прошел школу придворных певчих. Это своего рода «срочная музыкальная служба», не пройдя которую, трудно на что-либо претендовать в смысле официальной карьеры. Но, в отличие от многих своих коллег, Гайдн избежал участи лучших из них. Что это значит? Ничего хорошего – смею вас уверить! Лет примерно в тринадцать все уже восхищались не только тем, как чисто и точно он поет (для тринадцатилетнего мальчика у юного Гайдна был очень развитый, хороший слух), но и красотой его голоса, и, конечно, это сокровище хотели ему оставить. Что значит оставить? Оскопить его, сделать кастратом, чтобы таким прекрасным детским голосом он и пел до конца дней своих. Так поступали со многими его соучениками – разумеется, ни о чем их не спрашивая и никакого «контракта» с ними не заключая. В результате весть о том, что Гайдна уже сделали кастратом, дошла до его родителей. Дальше – сцена, которая достойна пера романиста.
В Вену приезжает папа, его с большим трудом впускают в интернат, где содержатся придворные певчие, он кидается к сыну и кричит: «Зепперль, тебе больно? Ты можешь ходить?» – Гайдна в детстве называли очень странным австрийским уменьшительным от итальянского имени Джузеппе, Джузеппе ведь – то же самое, что Иосиф или Йозеф. (А Моцарта называли Вольферль, его сестру – Наннерль.) Ничего не подозревающий Зепперль спокойно отвечает: «Ничего, могу, все нормально, папа», – и только слегка удивляется этому внезапному приступу родительской любви. Но приступ привел к тому, что известного рода операция не состоялась. И уже через пару лет императрица Мария Терезия лично обратила внимание капельмейстера своих певчих на то, что «этот, как его – Гайдн у вас не поет, а хрипит, как фазан, – вы что, сами не слышите?» – и так далее. Подростковая мутация голоса началась в естественные, нормальные сроки. Значит, обошлось.
Еще одна этапная удача в жизни Йозефа Гайдна состояла в том, что в свое время, а именно в 1761 году, его нанял на работу хозяин замка, который и теперь возвышается посреди маленького городка, называемого Айзенштадт (есть и другое его название, венгерское – Кишмартон, «маленький Мартин»), и все знают этот объект как замок Эстергази.
Эстергази – одна из самых знатных аристократических фамилий Австро-Венгрии, княжеский род, который, между прочим, до сих пор существует и процветает. Замок наполовину принадлежит федеральной земле Бургенланд, а наполовину находится в частной собственности, хотя хозяева там появляются крайне редко – хорошо, если раз в год.
Такая семья не может себе позволить жить ниже определенного уровня комфорта, спокойствия, удовольствий. Но удача в том, что в этой семье к уровню комфорта и всем его показателям также легко причислялись и удовольствия, связанные с музыкой. Поэтому на тех же правах, что и садовники, егеря, повара и конюхи, содержался целый оркестр. Сначала князь нанял Гайдна вице-капельмейстером, а при следующем князе, которого звали Николай I (или Николай Великолепный), Гайдн уже стал первым капельмейстером. Это значило, что в течение двадцати девяти лет он имел не только постоянный источник доходов и мог совершенно не заботиться о том, где ему взять денег, как добыть хлеб насущный, но и постоянное оплачиваемое жилье буквально в двухстах шагах от замка. Мало того, Гайдн имел и постоянный доступ к ресурсам целого оркестра и постоянного слушателя, что, как мы увидим, еще важнее.
Можно совершенно точно сказать, что за эти двадцать девять лет ни одной крошечки княжеского хлеба Гайдн зря не съел. Подтверждением этому мог бы служить длиннейший список его служебных обязанностей. Они включали в себя, кроме высокохудожественного творческого обслуживания месс в часовне замка и в знаменитой Бергкирхе – церкви на горе, еще и проведение по жесткому еженедельному графику княжеских концертов.
В зале все – точно так же, как было при князе Николае. Сцена, свечи, потолочные своды с аллегорическими изображениями европейских стран и земель, подвластных Австро-Венгрии, – вся эта дороговизна и красота практически не изменились. Правда, концерты очень мало были похожи на то, что люди на рубеже XXI века называют филармонической жизнью, потому что это были концерты (а порой – и оперные спектакли!) для одного человека. С точки зрения капельмейстерской ответственности за порученное дело, это значит, что надо не только сочинять, когда скажут, и разучивать с музыкантами, когда попросят, но еще ведь надо – не повторяться. Потому что если – не приведи господи! – его сиятельство заскучает, то увольняют, как правило, одного капельмейстера и нанимают другого, чего с Гайдном не случилось. Он своего работодателя в замке Эстергази «пересидел». Но всякий раз, когда его сиятельство Николай I чем-либо бывал в работе своей музыкальной службы недоволен, это обязательно имело далеко идущие последствия для всей истории мировой музыки в будущем. Другое дело, что каждый раз бывали разные последствия.
Вот однажды (а Гайдн тогда еще не очень долго служил при княжеском дворе, то есть уже был в курсе дел, но не на сто процентов) князь сказал Гайдну: «Ты мало внимания уделяешь моей страсти». Что за страсть? Ее деревянное воплощение сейчас тоже находится в замке в Айзенштадте, в объемистом прозрачном шкафу из толстого бронированного стекла. Это тот самый инструмент, на котором князь Николай I больше всего на свете любил играть, и, стало быть, звук именно этого инструмента доставлял ему наибольшее удовольствие.
Инструмент этот называется «баритон» (по-немецки он, правда, произносится «барютон», но есть и итальянское название: viola di bordone). Это не тот баритон, которым доблестные оперные певцы поют партии Онегина или Риголетто, а инструмент, который ныне является не просто исчезающим, а почти вымершим подвидом струнных музыкальных орудий. Хорошо, если в наше просвещенное время во всей Европе найдется десять исправных экземпляров баритона, на которых можно было бы играть. Кстати, еще меньше существует исполнителей, которые владеют баритоном. Это своего рода гибрид – очень странная порода, которая является помесью виолы да гамба и арфы. Ну, с виолой да гамба, ножной виолой, все более или менее понятно, на ней играют, нежно обняв ее коленочками, почему она и «ножная». С арфой еще более понятно – ее щиплют, и ей это очень нравится. Но что получилось с баритоном, какая здесь смесь, какая история и чем вообще этот инструмент интересен?
У него два грифа. На одном семь струн, как и положено классической басовой виоле, и они делаются, естественно, только из воловьих жил, причем три нижние обязательно имеют серебряную обмотку из тончайшей канители. На них играют смычком. Но у этого инструмента имеется еще и второй комплект струн – железных. Они предназначены для резонанса, чтобы усилить звук этого инструмента, а звук и вправду не отличался чрезмерной яркостью. Интерес игрока на самом деле состоит в том, что железные струны можно было щипать при игре. То есть человек играет и − практически сам же себе, в нужный момент зацепляя пальцем нужную струну, – аккомпанирует, это своего рода «самообслуживание».
В принципе музыка, правильно написанная для баритона, даже не требует никакого особенного аккомпанемента, за что, видимо, князь Николай его и любил. И это вполне могло бы остаться его частным или сугубо домашним, семейным делом. Теперь – «вопрос на засыпку». Вы знаете, каких сочинений у Гайдна больше всего? При наличии больше чем ста симфоний, больше восьмидесяти струнных квартетов, больше чем полусотни фортепианных трио – абсолютный количественный рекорд в послужном списке капельмейстера Франца Йозефа Гайдна составляют струнные трио совершенно одинакового состава: скрипка (а чаще альт), виолончель и вот это странное орудие – баритон. Естественно, все эти трио написаны для одного и того же состава, где на баритоне играет князь Николай I лично.
Как это было сделано? Альтист и виолончелист – нанятые на постоянный оклад профессионалы, они работают, у них написано много нот, им надо начальство обслужить. Они сидят по краям, а в середине сидит князь и блаженствует. Он получает удовольствие, наслаждается – партия баритона написана так, как пишут речи для начальства (Гайдн выступает в качестве спичрайтера для своего работодателя), ведь начальство никогда не опаздывает – оно задерживается, и оно никогда не ошибается – оно импровизирует. Может быть, поэтому среди 126 трио для этого состава нет двух похожих (хотя почти две трети из них написаны в одной и той же тональности)?
Теперь можно перейти к крупным обобщениям. Имея уникальный опыт дипломатического угождения вкусам одного весьма непростого человека в течение двадцати девяти лет, Гайдн стал (сам того, по всей видимости, не заметив) основоположником всех классических музыкальных жанров. Вот, например, симфония: у нее есть образцовый порядок, образцовая последовательность, образцовая логика – все так, как должно быть. Это обкатывалось здесь, в замке Эстергази в Айзенштадте, год за годом, и пригонялось: оптимальные пропорции, оптимальные правила, оптимальные соотношения всех музыкальных деталей были найдены опытным путем. Потому что это красивее всего, это больше нравится, это логичнее, это живее. И точно так же – с квартетом, с трио, со всеми остальными вещами. То есть именно через эту работу Йозеф Гайдн фактически стал для классической музыки «господином госстандартом», то есть целым министерством стандартов и образцов в одном лице.
Золотые стандарты классики – это, конечно, очень хорошо, но надо ведь было обладать очень счастливым складом характера, чтобы никогда не уставать сочинять и все время получать удовольствие от написания музыки в одних и тех же классических рамках. Гайдн умел извлекать из всего этого удовольствие.
Как он сочинял? Есть одна очень характерная история, и она связана, кроме всего прочего, с его собственной домашней жизнью. Жену Гайдна в Айзенштадте до сих пор поминают недобрым словом, говорят, что она была некрасивая, и к тому же ханжа – притворно набожная женщина. Один раз она ушла в церковь, оставив Гайдна в постели с высокой температурой, он сильно болел. Служанке были даны строгие указания – к инструменту Гайдна не подпускать. Естественно, служанку оказалось очень легко отослать с каким-то поручением на рынок, и за те 10–15 минут, что ее не было, он уже набросал сонату. Причем когда служанку удалось отослать еще раз, то соната, которая представилась ему сразу в готовом виде, была тут же закончена. Гайдн потом говорил: «Я даже ничего про эту сонату не помню, только помню, что у нее было пять крестов». Это значит, она была написана в редкой для тогдашней музыки тональности си мажор, потому что пятью крестами в нотах обозначаются пять диезов. В любых других руках такой творческий метод был бы графоманией. А тут это естественный и радостный процесс созидания, как и положено первому венскому классику!
Гайдн очень живо рассказывал эту историю про пять крестов и, видимо, хорошо ее помнил. Но самое любопытное другое. В его Полном академическом собрании сочинений для фортепиано (а одних готовых сонат там 52, с набросками и вариантами – более 60) ни одной сонаты в си мажоре «с пятью крестами» нет. Для него гораздо важнее его собственные радостные ощущения в момент сочинения, а не то, что было с этой музыкой потом. Между прочим, не только считать свои опусы, но и давать им какие-то особые названия, клички, прозвища Гайдну никогда даже и в голову не приходило. Это уже целиком работа наблюдательных современников и особенно – благодарных потомков.
А вот откуда берутся прозвища? Современники на лету хватали самые удивительные и не похожие на других авторов детали гайдновских сочинений. Скажем, смешной момент откровенного кудахтанья (имел ли Гайдн в виду изобразить здесь курицу, хлопающую крыльями и бегающую по двору, никто не знает), – в Симфонии «Курица». Прозвище прочно приклеилось к этой музыке, которая числится в современных каталогах под номером 83 и является на самом деле частью большой серии из шести так называемых «парижских симфоний Гайдна». Кроме Курицы там есть еще Медведь, Королева Французская и много разных занятных названий.


