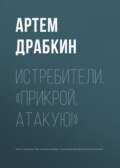Артем Драбкин
Краснофлотцы
А потом что было?
В общем, получилось так, что в Киркенесе бои для меня кончились, я уже не воевал. И вот что вспомнилось. Не хотелось бы хвастаться, но до того у меня был сильный патриотизм, чтобы воевать за Сталина, за Родину, что я хотел дальше воевать. И вот, помню, прибегают как-то ко мне ребята и говорят: «Сашка, ты знаешь, что? Набирают желающих ехать на Дальний Восток, ну чтобы воевать еще против Японии». Я прибегаю к командиру бригады и говорю: «Отправьте меня на Дальний Восток». А я перед этим пленного взял, когда еще бои шли. И он говорит мне тогда: «Разгуляев, тебе уже досталось. Тем более, ты приехал с отпуска и сказал, что у тебя брат погиб (а я получил отпуск, когда меня в первый раз наградили; и когда я с отпуска приехал, то со слезами рассказывал, что у меня брат Ванюша погиб). Какого хрена? Ты свое уже дал для родины. У тебя два ордена Красной Звезды, две медали». И так я остался на Севере служить.
А как норвежское население встречало вас?
Норвежцы нас встречали как родные, это было что-то невероятное. Ведь когда город был оккупирован немцами, фашисты издевались над норвежцами, поэтому и принимали они нас очень радушно. В общем, принимали именно как своих освободителей. И вот что интересно: когда я побывал в Норвегии и посмотрел, как хорошо местное население здесь живет, глазам своим не поверил.

Удостоверение к медали от короля Норвегии, которым был награжден А.М.Разгуляев.
В детстве, когда мы жили в СССР, нам внушали, что люди за границей живут плохо. Я хотя был еще маленьким, но помню, что на Украине был неурожай, так как об этом все время говорили, что для выдачи хлеба существовала карточная система: давали всем по 200 граммов хлеба всего по карточкам. Но нам в советское время постоянно говорили: несмотря на то, что мы живем по карточкам, что у нас есть те или иные проблемы, мы все равно живем хорошо, а вот за границей, там, где капиталисты угнетают рабочих и крестьян, люди впроголодь живут. И когда я увидел, как в Норвегии хорошо люди живут, что там во время войны действуют магазины, я очень этому удивился. А встречали они нас очень тепло. Я даже ходил в норвежский клуб на танцы. Помню, что после танцев одна норвежка мне объяснила руками (по-русски она же не умела говорить): «Пойдем ко мне в гости чаю попьем!». Я к ней пошел. Посидели, отец-мать ее меня встретили, причем так радушно, поблагодарили, что мы их от немцев освободили. Потом я на часы стал показывать, говорю: «Мне надо идти в часть!». Это было уже вечером. Они меня уговаривали остаться, но я отказался. И ушел уже в часть свою. А потом меня в Норвегию стали все время приглашать на празднование Дня Победы. И я езжу все время. Только в этом году не ездил, так как у меня операция была. Один раз с дочкой ездил, ей сейчас 31 год. В Мурманске тоже я бываю, был как-то на параде, курсанты там проходили, все было красиво, хорошо… Я даже получил две памятные медали от короля Норвегии – в 2000 и 2005 году.
Помните, как впервые отметили День Победы?
Конечно, я этот день хорошо помню. Мы в Киркенесе стояли, ну, наша часть там тогда находилась. Естественно, праздновали. Но дело в том, что у нас в октябре месяце уже закончились военные действия, и поэтому до мая 1945 года я не воевал. Радовались, конечно, Победе, стреляли из оружия.
Кстати говоря, Александр Михайлович, а что представлял из себя Ваш взвод разведчиков, которым Вы во время войны командовали, чем Вы в основном занимались?
Непосредственно на Рыбачьем я был по должности командиром взвода разведчиков. А командир взвода разведки занимался в основном тем, что доставал сведения о противнике. Взять «языка», как это у нас называлось. А «язык» – это был пленный немец, от которого мы, вернее, наше командование, получали ценные сведения для будущей обороны или наступления. Как начиналось наступление и приходило пополнение, так с нас, с разведчиков, требовали срочно взять такого «языка». И я помню, что очень часто ходил со своим взводом на задания, но почти всегда это было бесполезно, потому что у немцев все хорошо охранялось, у них были и проволочные заграждения, были спирали бруно, все было заминировано, а нам, значит, через эти препятствия нужно были ходить за пленным. Кроме того, было полно снайперов. Также местность хорошо просматривалась, чуть что немцы выпускали ракеты для освещения местности. Летом было еще хуже, так как там было круглые сутки светло. Так что чаще наши попытки были безрезультатными, мы все время несли потери. Но потом все же несколько «языков» мне удалось захватить.
А сколько, Александр Михайлович, было на Вашем счету «языков»?
Да «языка», наверное, четыре было, потому что нам все время нужно было получать сведения о противнике, и самые ценные сведения давал «язык».
Помните, как захватили первого «языка»?
Отлично помню этот случай. В общем, дело было так. Когда в 1942 году меня назначили командиром взвода разведки, у меня опыта не было никакого. А во взводе, куда меня назначили, были в основном штрафники, которых амнистировали в самом начале войны за мелкие уголовные преступления, в общем, за бытовуху, освободили из лагерей и отправили на фронт.

Подполковник А.М.Разгуляев, город Кохтла-Ярве, Эстония
Многие ведь из них рвались на фронт, так как был закон, по которому с них снималась судимость после первого ранения. Короче говоря, взвод состоял из таких хулиганов и прочих. При первом ранении или если они отличались чем-то во время выполнения боевого задания, допустим, брали «языка» или совершали какой-то подвиг, судимость с них снималась. Их много погибало. Так вот, когда меня назначили в разведку, у меня произошел один интересный случай. Тогда у нас как раз шло наступление на полуострове Рыбачий через хребет Муста-Тунтури. Я несколько раз ходил со своим взводом на задание. Командующим Северным флотом тогда был, по-моему, вице-адмирал Головко. Так вот, он приказал нашим генералам, которые находились на полуострове Рыбачьем, готовиться к большому наступлению, что, мол, скоро оно будет. И вот, в это самое время, вызывает меня командир бригады и говорит: «Разгуляев, срочно нужен пленный «язык», потому что скоро мы пойдем в наступление, и нам нужны сведения о противнике». Я говорю на это ему: «Товарищ полковник, мы уже раза три ходили. Бесполезно! Проволочные заграждения, спирали бруно, там минные поля, оборона у них крепкая, сложно его взять». А до этого мы сколько ни ходили, все было бесполезно, и несли обычно потери по два-три человека убитыми. Он говорит: «Я уже разговаривал с командующим, а командующий говорит: «Тогда идите сами за «языком», раз ваши разведчики не могут взять». Тогда обстановка на Рыбачьем была тяжелая, немцы занимали господствующие позиции, и нам не хватало сведений о противнике.
Короче говоря, с этим личным приказом командира бригады я пошел в землянку к разведчикам. Но представьте себя на моем месте. Это сейчас мне 96 лет, хотя, как некоторые говорят, я еще молодо выгляжу. А когда мне было всего 27–28 лет! Я был молод и находился всего лишь в звании лейтенанта. Помню, что еще, когда меня назначили к ним командиром взвода, они встретили меня неприветливо, сказали в таком духе, что: «Ха-аа, прислали нам, твою мать, какого-то пацана, б….дь». И они, эти штрафники, первое время вообще меня ни за кого не признавали. В общем, не считались они со мной. Но многие из них были старше меня по возрасту. И понятно, что никаким авторитетом я у них не пользовался. И так продолжалось долгое время, пока мы безуспешно охотились за «языком». Ну и вот, когда нам срочно понадобился пленный и я пришел к ним в землянку сообщить приказ командира бригады, они мне сказали так грубо: «Пошли они на х…й, пускай они сами и идут». Можете представить, каково было мое положение? Я не знал, что мне и делать. А дело в том, что у меня был ординарец Витя, родом с Вологды, здоровый такой парень. К сожалению, я уже позабыл, как его была фамилия. В армии ординарец был вроде как слугой у офицера: он стирал и сушил у него портянки, приносил покушать и так далее. Таким ординарцем и был у меня Витя. Так вот, этот Витя мне и сказал, когда узнал о приказе командира бригады: «Товарищ лейтенант, а че мы гамбузом таким пойдем? Давайте вдвоем сходим в разведку. И тогда обязательно приведем «языка». А то мы помногу ходим, и немцы нас обнаруживают». Я сообщил об этом командиру бригады: так и так, больше взводом не пойду. «Как это так?», – спрашивает. «А мы вдвоем пойдем», – говорю. «Ты что, – спросил он меня, – хочешь убежать, что ли? Спастись хочешь? Почему не взводом? Как же вы вдвоем пойдете?». Я ему сказал: «Да вы что? Ни за что не хочу сбегать! Мы приведем». В общем, убедил я своего командира бригады в целесообразности разведки малой группой. «Ладно, – сказал он, – сколько времени тебе нужно?». «Дня три-четыре», – сказал ему. На том и порешили, как говорится.
А у нас, у разведчиков, были такие перископы-разведчики, в которые мы, значит, все время за немцами наблюдали. Маленькие такие. И мы три дня за немцами по такому перископу наблюдали, искали, как захватить «языка». И вот, когда мы тогда наблюдали, то на хребте Муста-Тунтури обнаружили окоп, и в нем, как оказалось, снайпер сидел. И я тогда своему ординарцу показал на этого немца и сказал: «Будем вот этого брать». Как только наступила ночь, мы, значит, к этому окопу поползли, взяли с собой ножницы, и когда стали подходить к месту, то прорезали этими ножницами проволочное заграждение, прошли все, что нам нужно было, и уже подбирались к траншее, где находился наш потенциальный пленный. Тогда я своему ординарцу сказал: «Слушай, вот сейчас скоро будет окоп. Сделаем так: я прыгну вниз, а ты, когда я тебе крикну, сверху. И так возьмем пленного». Я прыгнул вниз в этот окоп, и мы потихоньку стали ползти и ползти, и где-то там находился снайпер. У каждого немецкого снайпера была ракетница. Ночь была. Они периодически стреляли, смотрели, не идут ли к ним русские. А у нас и понятия об этих ракетницах не имели. И вот, когда я повернул голову, то увидел, что немец благодаря выпущенной ракетнице меня увидел. А дело в том, что, когда мы уходили на задание, на нас мои разведчики нацепили не то тряпки, не то мочалки какие-то, в общем, для маскировки. И этот немец, когда меня увидел, испугался этих тряпок, принял это неизвестно за что, и по-моему даже начал молиться: мол, что это за черепаха такая ползет. Я сразу схватил его за ноги, дернул и закричал: «Витя, Витя!». Витя навалился сверху и начал этого немца душить. Я ему тогда сказал: «Надо живого, живого». Немец начал стонать. Он, как я понял, хотел кричать, чтобы предупредить своих. Мой ординарец прижал этого немца, помог его связать, засунул ему кляп в рот. И мы тогда притаились где-то на 5-10 минут. Это мы сделали для того, чтобы немцы, которые по соседству были, не увидели и не услышали эти крики. Ведь если бы они услышали, то нам было бы не уйти. А там вроде было слышно и видно, что немцы то с одной, то с другой стороны начали местность освещать. И вроде стрелять даже начали. И вот, только когда прошло какое-то время, мы этого пленного потащили ползком, помню, все тащили и тащили. Интересно, что, когда до этого мы в перископ разведчика смотрели, нам казалось, что место, где был этот снайпер, от нашего расположения совсем близко находится. А на самом деле оно было далековато, до него нужно было ползти и ползти.
В общем, мы дотащили этого «языка». А тут вот еще какое дело получилось. До того, как мы с Витей пошли на задание, у меня был разговор с адъютантом командира бригады Вьюненко, я ему сказал, что к ночи мы пойдем за «языком». И он мне сказал тогда на это: «Я сегодня приду в землянку и буду ждать вас». Так вот, когда мы вышли через проволочное заграждение и прошли на нашу территорию, вдруг выскочил этот самый Вьюненко. Я первым шел, а ординарец сзади пленного тащил. Вьюненко спрашивает: «Ну что, Сашка?! Опять бесполезно?!». Я говорю: «Есть». «Не может быть!!!» – говорит Вьюненко. Я тогда говорю: «Где командир бригады?». «А он на нарах там спит», – сообщает Вьюненко. «Как спит?». А у командира бригады была договоренность с 101-м артиллерийским полком, который поблизости был, что в случае чего те начнут стрелять. И он сказал, что если будет что-нибудь такое, чтобы его немедленно будили. Я захожу в землянку и вижу, что командир бригады спит на нарах. Тогда я трогаю его за сапог. Он просыпается, кричит: «Ну что, опять бесполезно?». Я говорю: «Есть». «Не может быть!!! – не поверил он в это. – Пошел на хер, что ты врешь?» И тогда, значит, к командиру бригады привели этого «языка». Командир бригады спустился с нар, обнял меня и сказал: «Получишь орден Красной Звезды!» Это был первый орден Красной Звезды. А потом я еще получил второй орден Красной Звезды, тоже, значит, во время войны. Так вот, что интересно: после этого самого случая, когда мы с Витей привели пленного, штрафники стали признавать меня, стали со мной считаться.
Кстати, Вы сказали о втором ордене Красной Звезды. За что Вы его получили?
А мне этот орден дали за другого «языка» – мы пленного унтер-офицера тогда приволокли. Но тогда я уже не один, а со взводом ходил на задание. Это было во время взятия города Киркенеса. У меня вторая моя жена работала в милиции, дослужилась до майора милиции, и как-то раз, когда было нужно, она запросила данные в архиве о моем награждении этим орденом. И вот у меня есть представление на этот орден.
Что интересно: когда я захватил пленного немецкого унтер-офицера, командир бригады мне сказал: «Получишь орден Красной Звезды!». Я сказал командиру бригады: «Не надо мне ордена Красной Звезды, у меня один уже есть». «А чего ты хочешь?» – спросил он тогда меня. И я ему тогда сказал: «В отпуск можно? Потому что у меня родители всю блокаду прожили в Питере, а сейчас они живут в Мордовии». А я знал, что после блокады отец, мать и сестра эвакуировались за 200 километров к югу от Нижнего Новгорода в Мордовскую автономную республику, туда, откуда отец был родом. «Да ты что, с ума сошел?! – сказал мне командир. – Ведь есть приказ Сталина: никаких отпусков не давать. Да и потом: сейчас никаких пассажирских поездов не ходит». Я только сказал: «Я доберусь на каком-нибудь товарняке и прочее. Ведь мне всю войну хотелось увидеть мать и сестру». И он в итоге сдался, сказал своему адъютанту: «Ну ладно! Вьюненко, скажи начальнику штаба, чтоб выписали Разгуляеву отпускной». И он мне дал отпуск без дороги на 15 дней.

Встреча А.М.Разгуляева с семьей. Осень 1944 г., Мордовия. Слева направо: сестра, отец – Михаил Максимович Разгуляев, мать – Ольга Карловна Разгуляева, Александр Разгуляев.
В общем, получил я свой отпускной. И так я стал добираться к своим в Мордовию. Сначала хотел ехать через Петрозаводск, но он, как оказалось, был еще немцами оккупирован. Тогда я поехал в Архангельск, из Архангельска на Москву и так доехал. А ехал знаешь как? Я подходил к машинисту паровоза товарняка какого-нибудь и говорил: «Можно мне проехать вот туда-то и туда-то?». «В честь чего это?» – спрашивал тот меня. А я ему говорил: «Вот мне дали отпуск, вот документ есть, и там написано, что за героизм и прочее-прочее дан мне отпуск на две недели». И показал ему этот документ. И он тогда говорил: «Давай, сынок, иди садись!». Ну я и ехал на этой угольной свалке, потому что поезд уголь перевозил и все это дело.
Когда я впервые приехал в Мордовию и только-только зашел в избушку, где жили родители, отца на месте не оказалось. Это было на такой станции Торбеево, в селе Дракино, там, где и жили родители. А там, в Мордовии, тогда были такие Потьминские лагеря заключенных (они находились на станции Потьма, от этого и название). В основном во время советской власти там политические заключенные содержались. И отец работал там охранником. Потом, как война кончилась, он уехал обратно в Питер. В общем, сначала, когда я пришел домой, его не оказалось на месте, он работал. Мама, как увидела меня, так сразу сказала: «Шуренька, как ты сюда попал? Еще война не кончилась. Ты что, сбежал, что ли?». Я сказал ей: «Мамуля, я в отпуск». Вдруг она как заплачет. «Шуречка, – говорит она мне, – а Ванечка погиб». Я говорю: «Как?». «А вот есть бумажка», – сказала она мне. И она показала письмо треугольничком. Тогда конвертов не было, и письма, которые приходили с фронта, такими треугольничками заворачивались. И там было написано, что мой брат Ваня погиб на Орловско-Курской дуге. А брата я очень любил. Он у меня был красивый, стройный, выше меня ростом. Если мы куда-то с ним ходили, девчонки засматривались на него. Я ему все время завидовал, говорил: «Ванька, у меня нос такой здоровый, а у тебя аккуратненький, на тебя девчонки смотрят, а на меня нет». Но он моложе был меня на целых восемь лет, родился в 1923 году. И вот он погиб. Потом пришел отец. Как увидел меня, так закричал сразу: «Твою мать, ну-ка убирайся на хрен!». Я говорю ему: «Пап, я в отпуск приехал». «Какой отпуск? – говорит он. – Никто не приезжает, никаких отпусков нет, а ты тут приехал в отпуск». Я говорю: «Да в отпуск я приехал». «Ну-ка покажи отпускной!» – говорит он. Я показал ему свой отпускной. Тогда он говорит маме: «Ольга, беги за самогонкой!». Ну и потом отец ходил по знакомым и соседям, таскал меня, значит, показывал на меня, на мой орден, и все говорил: «Это мой сын! Это мой сын!». Кстати, когда я после войны приезжал к отцу и к матери, они так радовались, что я при орденах и прочее-прочее. Отец бегал по дому и кричал: «Сын приехал, герой приехал!». И всегда в таких случаях водочки предлагал. Я всегда отказывался, говорил: «Папа, да брось ты, я не хочу!». Он обижался на меня. Может, потому я и жив в 96 лет. Но сейчас я могу позволить себе 20–50 граммов выпить.

Лейтенант Разгуляев со своей сестрой, осень 1944 г., Мордовия.
И Вас наградили вторым орденом Красной Звезды?
Да, вторым орденом меня наградили.
А какими еще наградами Вы были во время войны отмечены?
Я был еще награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Советского Заполярья». После войны еще орден Отечественной войны получил. И есть еще у меня две памятные медали от короля Норвегии, правда, эти награды я недавно получил.
Насколько часто бывали у Вас неудачные походы за «языком»?
Таких походов было очень много. Как сейчас помню: как ни пойдем – немцы нас обнаруживали, начинали стрелять своими осветительными ракетами, и задание проваливалось. И самое главное, что в порядке вещей то одного, то другого нашего убивали. Так мы, когда приходили с двумя убитыми, считали это почему-то нормальным. И никакого пленного не было. Ведь сейчас если в армии так человек погибнет, того, кто его отправил на задание, просто засудят. А тогда считалось, что это нормально.
Вас, как разведчиков, вообще-то берегли?
Ну как сказать? Не знаю. У нас почти круглые сутки велась перестрелка. И мы, когда в разведку на задания не ходили, стояли в обороне, сменяли друг друга.
А как организовывалась у вас оборона?
Ну, у немцев была хорошо организована оборона, а у нас и никаких проволочных заграждений не было. Мы только, как говорят, в окопах находились. Жили же мы в землянках, которые сзади окопов у нас были выкопаны.
Какими были наши потери в годы войны?
Потери у нас были очень большими. Но большими наши потери были почему? Потому что в основном у нас никакого вооружения-то и не было: были только такие длинные мосинские винтовки. У немцев же у всех автоматы были. У нас их не было, несмотря на то, что потом в нашей стране автомат Калашникова изобрели. Пистолеты были только у офицеров. Ну так как я был офицером, у меня был пистолет ТТ. Когда я ездил в отпуск, у меня в моем аттестате так и было записано: пистолет ТТ. Так что у немцев было вооружение намного лучше, и, что самое главное, у них были очень грамотные офицеры, все это у них передавалось по династии. Ведь Германия в то время была как что-то невероятное. Ну как может маленькое государство полмира за считанное время завоевать? Против Америки, против Советского Союза, против Англии пойти! Я до сих пор удивляюсь, как могла такая маленькая страна на это решиться. Так что потери большие были, я и не сомневаюсь, что у нас 27 миллионов человек погибло.
А такой вопрос: неоправданные потери у вас были?
Такие потери были постоянно. Ведь у нас было как? Вот приказывают солдатам: надо взять такую-то сопку во что бы то ни стало, она – господствующая. Чтобы завоевать эту сопку, нас туда посылают. Немцы дают отпор, человек 10–12 у нас погибает, и мы отступаем на свои исходные позиции. И так было постоянно.
Сколько раз Вы были ранены во время войны?
У меня было два тяжелых ранения и контузия.
Расскажите о том, как Вы эти ранения получили.
Ну, первое ранение как я получил? Первый раз пошли мы, значит, за «языком». Разрезали проволочное заграждение. А оказалось, что проволока была соединена с миной. Миноискателей тогда почти ни у кого из нас не было. Эти миноискатели появились, может быть, в конце войны уже. На Западном фронте они, правда, были, а у нас их не было. Там, на Западе, прежде, чем куда-то идти, брали миноискатель, а у нас и понятия об этом не имели. В общем, мина разорвалась, я получил ранение. Но лечился прямо в части, в тыловой госпиталь меня не забирали. Там же был полевой госпиталь. Там недельку я отлежался, а потом снова продолжил воевать. А второе ранение получил тоже, когда ходил за «языком» группой, это было в боях за освобождение города Киркенеса. Немцы стреляли из своей артиллерии. А у нас там тоже была своя артиллерия: рядом с нашей бригадой стоял 101-й артполк. Так вот, в то время, когда мы находились на задании, разорвался их снаряд, я получил осколочное ранение. Но не только один я был ранен, задело еще несколько человек. И я тогда помог эвакуировать семь наших раненых бойцов. Кстати, этот осколок мне вытаскивали уже после войны. Тогда у меня начались что-то сильные боли между сердцем и легкими, мне сделали операцию, и оказалось, что там осколок был. Ну мне его и вытащили. Была, кроме того, еще у меня и контузия, из-за этого у меня до сих пор проблемы с глазами: могу читать только с лупой. И я считаюсь инвалидом Отечественной войны, есть у меня такое удостоверение. А кроме того, я на Севере получил сильное обморожение, у меня, помню, даже кожа слезала. Но так было у всех, не у меня одного. Ведь жили мы в неотапливаемых землянках, и из-за этого у многих из нас были обморожены руки.
Как с пленными «языками» поступали в дальнейшем?
Их отправляли дальше в тыл, там их допрашивали и делали какие-то выводы. У нас же тоже были лагеря, в которых военнопленные немцы содержались. Даже в Потьме в Мордовии, где мой отец охранял заключенных, был специальный лагерь для военнопленных. Я об этом знаю, но не видел. Дело в том, что мы отправляли пленных в Мурманск на тех катерах, которые привозили нам продукты. А там уже начальство решало, куда их распределять. Но в лагеря специальные, очевидно, их отправляли. А те немцы, которые переходили на нашу сторону добровольно, так среди нас и жили.
Кстати, если говорить о немцах, которые добровольно переходили на нашу сторону, то вот мне какой вспоминается эпизод. Расскажу об этом. Это произошло в 1943 году. Однажды вызывает меня командир бригады. Я прихожу к нему. Смотрю: у него сидит какая-то женщина. Он говорит: «Разгуляев, познакомься!». Я подхожу к этой женщине, беру ее за ручку, знакомлюсь. Тогда мне командир бригады говорит: «Это женщина – переводчик, она прибыла к нам с Полярного для выполнения важного задания. Она поступает в твое распоряжение. Размести ее у себя в землянке. И она будет с вами воевать». Это меня удивило. Ведь я был командиром взвода разведки, ходил за пленными, выполнял различные задания. Тогда, правда, мы на отдыхе находились. Мы периодически менялись: неделю одни служили, неделю мы. Я знал, как тяжело воевать в разведке. И вдруг мне говорят, что с нами будет воевать эта женщина. Я говорю: «А что так-то? Она пойдет с нами воевать? Зачем она нам нужна? Куда она с нами пойдет?» «Знаешь что? – говорит мне командир бригады. – Она будет больше пленных ловить, чем ты с боем. Ты как сходишь в разведку – человека два-три погибает». «Так а что она будет делать?» – с удивлением спрашивал я его. «Она тебе расскажет», – сказал полковник. Я говорю: «А какое у нее звание?» «А никакого звания у нее нет». Я говорю: «Как же она будет выполнять приказы?». В общем, молодой я был, мало что понимал тогда. Потом я привел ее в землянку. А у меня во взводе разведки были в основном те, кто освободился из мест заключения по мелким преступлениям. Им для того, чтобы снять судимость, нужно было или «языка» притащить, или еще что-нибудь такое совершить. Я привожу эту девушку в землянку и говорю: «Ребята, вот эта девушка будет с нами воевать, она будет ловить пленных». Все, как услышали это, так и захохотали: мол, как это она воевать с нами-то будет? Но отказаться не могли, командир бригады мне сказал: «Знаешь, что? Я тебе приказываю и хватит болтать. Вот все, что она скажет, то ты и будешь выполнять. Она тебе расскажет».

Лейтенант Разгуляев (справа) со своим ординарцем, 1943 г., полуостров Рыбачий.
В общем, разместил я ее в маленьком таком уголочке у нас. Этот уголочек мы специально ей загородили: накрыли сверху плащ-палаткой от дождя, из досок сделали что-то типа кровати, дали пару одеял, но никаких подушек не было, и поэтому вместо нее шинель была. Она пришла, значит, с каким-то чемоданом к нам туда. Потом она открыла чемодан, достала какие-то провода с микрофоном. И вот, когда стал приближаться вечер, эта женщина достала какой-то прибор, дала его мне и сказала: «Александр Михайлович! Знаете, этот прибор надо обязательно на проволочное заграждение немцев повесить. Ваши подчиненные должны это сделать». Я спрашиваю ее: «Когда? Днем, что ли?» А дело в том, что днем у немцев лучше все просматривалось, и я бы ни за что не пошел туда. А этот прибор, значит, нужно было установить на проволочные заграждения, где был хребет Муста-Тунтури. И там, как я знал, были и спираль бруно, и минные поля, в общем, все это было опасно, а днем тем более. «Нет, ночью», – сказала она. Ребята мои все слышали и только хохотали над этим: для чего это, мол, это нужно и прочее-прочее? Ночью штучку эту мы зацепили за проволочное заграждение. И вдруг утром в микрофон эта женщина по-немецки заговорила: «Ахтунг, ахтунг! Дойчен золдатен, унтер-офицерен!». Все это стало передаваться по громкоговорителю, который, как оказалось, мы у проволочного заграждения и установили. И вот она говорила: «Солдаты и офицеры! Скоро война закончится. Сталинград освобожден от немцев, освобождены такие-то города. Уже на Западе наши войска освобождают Европу, скоро подойдут к Германии. Скоро война закончится. Если хотите остаться в живых – сдавайте или переходите на нашу сторону. Тогда мы сохраним вам жизнь». В общем, проводила она агитацию среди немецких солдат к сдаче в плен, сутки напролет сообщала о положении на фронтах, о поражении за поражением, которые терпит Германия, ну и призывала прекратить бессмысленные бои. Она этот текст читала по бумажке. И так она дня, наверное, три или четыре этим занималась. Мы хохотали только над ней. Я говорил ей шутя: «Иди, бери винтовку мосинскую и бери пленного».
А рядом с нами по соседству стоял другой взвод. Вдруг прибегает оттуда один парень и говорит: «Сашка, немец перешел!» «Да вы что, охренели?» – не поверил я. «Мы его допросили, – сказал тот, – он сам к нам перешел». Такое событие в нашей жизни случилось впервые, до этого из немцев никто на нашу сторону не переходил. И вот теперь говорят: «Немец перешел». Я только удивлялся тому, как же так, немец перешел? Ну и я попросил этого парня: «А ну-ка приведи ко мне его». Привели ко мне этого немца. Я через эту женщину стал с ним разговаривать. «Спроси у него, почему он перешел», – сказал я ей. Немец заговорил. Он сказал: «Я слушал по радио сообщение, что скоро кончится война, что Германии, что капут Гитлеру, и там было сказано, что нам сохранят жизнь, если мы перейдем, что мы вернемся к своим родным и прочее-прочее». И когда мы узнали о том, что немец перешел на нашу сторону по призыву этой женщины, как начали ее обнимать и целовать: «Ну ты и даешь!» А когда она спросила этого немца, понимал ли он ее речь, он сказал: «Плохо понимал, вы с акцентом говорили». А у немцев, кроме того, много наречий в языке есть: одни у них так говорят, а другие так. Эта женщина плохо немецким языком владела. А так как он был чистокровный берлинец, то ее понял. Поэтому, говорил он, и не перешли на сторону русских некоторые другие немцы. «Хорошо, что я разобрался, о чем вы говорили, потому и перешел», – сказал немец. Потом его допросил командир бригады. И он мне сказал: «Мы его отправим в тыл, напишем, что он самовольно перешел на нашу сторону, чтобы его не казнили». А в то время в некоторых случаях пленных расстреливали.

Лейтенант Разгуляев (крайний справа) играет на своем трофейном аккордеоне, друзья танцуют. 1944, Норвегия.
Потом эта женщина ко мне обратилась: «Александр Михайлович, а можно этого немца оставить здесь?». «А для чего?» – спрашиваю ее. «А я буду ему текст писать, а он будет читать». Потом командир бригады пришел и сказал: «Дайте этому немцу место». Я с удивлением спросил: «Что его, на цепи что ли привязать?». «Да он сам перешел, – сказал мне командир бригады. – Если он вернется, его там расстреляют сразу. Он будет под руководством этой девушки «ахтунг, ахтунг» говорить».
Так, под руководством этой женщины, немец действительно начал на чистокровном берлинском агитировать немцев на добровольный переход на нашу сторону, все говорил им «ахтунг, ахтунг». И он говорил им, если не ошибаюсь, так: «Внимание, внимание! Я перешел на сторону Красной Армии. Скоро меня отправят на родину, я теперь свободный человек, война скоро кончится, и Германия будет побеждена. Благодаря тому, что я перешел на другую сторону, я остался жив и очень скоро увижу свою семью, своих братьев и сестер». И представь себе, после него три или четыре немца к нам перешли. Впоследствии тот немец попал в лагерь военнопленных, откуда добровольно перешедших на сторону Германии отправляли домой. Кстати говоря, что интересно, после войны на День Победы я случайно встретил эту женщину в Мурманске. Тогда она стояла на вокзале и уезжала куда-то в Россию. Я ее расцеловал. И на груди у нее был орден Красной Звезды. Я еще спросил ее: «А орден за что?». «А вот за то самое», – сказала она мне. Но она в то время не была военным человеком, ее как гражданское лицо просто мобилизовали для агитации среди немцев.