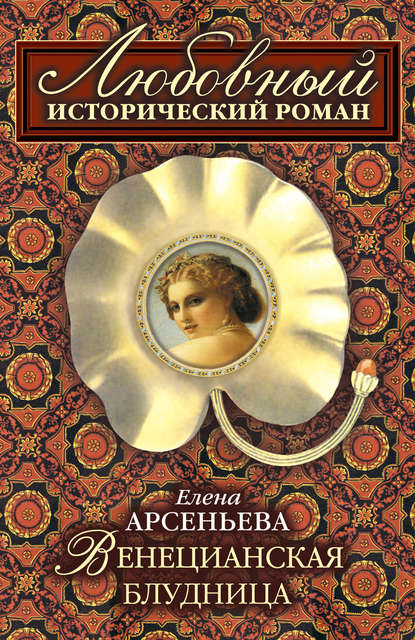
- Рейтинг Литрес:4.5
- Рейтинг Livelib:3.8
Полная версия:
Елена Арсеньевна Арсеньева Венецианская блудница
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Елена Арсеньева
Венецианская блудница
Две дамы, завладев моей душой,
Беседу о любви ведут согласно.
ДантеЧасть I
ЛЮЧИЯ
1
Напасти жизни
Во сне она всегда видела себя богатой…
Спала она, вернее, отсыпалась, днем, и сны были продолжением ее ночей, проведенных в каком-нибудь казино у богатого синьора или в «Ридотто», самом знаменитом игорном доме Венеции. Ее жизнь была как одна сплошная греза о том случайном и счастливом соединении богато одетых людей, заморских слуг и драгоценностей, которое зовется роскошью.
Лючия высунула нос из груды мехов – не раздастся ли манящий запах кофе, а еще лучше – горячего шоколада, самого модного напитка в этом году. Ах, что может быть лучше, чем проснуться в теплой постели, в нагретой жаровнями спальне, и долго, медленно вкушать чашку шоколада, смешивая сладкие глотки с еще более сладкими мечтами…
Вот оживленное общество собралось в ее роскошной спальне. Вся обстановка новехонькая, в стиле Louis XV. Лючия полулежит на кружевной постели. Дезбилье ее состоит из спального платья, вышитого серебром и убранного розовыми лентами, на голове чепчик из очень тонких кружев. Ах, нет, лучше пусть она будет уже причесана, и ее тугие, рыжевато-золотистые локоны сплошь перевиты жемчужными, рубиновыми, бриллиантовыми нитями. На шее – черная бархотка, точь-в-точь как у madame Помпадур. Вокруг ее ложа – сavalieri sirvente [1] – венецианские копии французских маркизов. Вот пришел торговец драгоценностями, принесли новое зеркало, явился портной с модной материей. Потом один из ее чичисбеев [2] прибежал сказать, что новая гондола ждет внизу…
Забывшись, она слишком резко откинула мех и тотчас задрожала.
Холодный ветер от лагуны коснулся ее лица. В окне было разбито одно стекло, а промасленная бумага, старательно расписанная золотой краскою под вид затейливого переплета, могла обмануть невзыскательный взор, но уж никак не январскую стужу!
Да, среди привычных напастей жизни были две особенные неприятности: холод и безденежье. Их Лючия не терпела более всего на свете, но не одна, так другая, а чаще всего – обе враз преследовали ее непрестанно.
Холодно, сыро, и все ее наряды, поутру небрежно сброшенные у постели, так и валяются неприбранными. Похоже, никто из слуг даже не вошел за весь день в ее комнату!
Никто из слуг… хорошо сказано! Каково звучит, а? Но точнее будет выразиться: Маттео, их единственный слуга, лоботряс, не сыскал за весь день ни минуты, чтобы зайти к госпоже. Не иначе, отец опять его заслал бог весть куда с каким-нибудь несусветным поручением: ведь когда князь Анджольери вез на рассвете Лючию из «Ридотто», дом был темен и пуст, как могила.
Анджольери! Лоренцо Анджольери! В жизни своей не встречала Лючия человека, менее похожего на ангела [3]. Было в его лице что-то если уж не дьявольское, то наверняка волчье: эти глубоко посаженные глаза, хищный нос, крупные острые уши. Красавцем не назовешь, но какое страстное, притягательное лицо… даже если забыть о том, что для Лючии было куда притягательнее внешности: несметные богатства Анджольери. Его недавно купленное и отремонтированное палаццо ярко светилось по ночам над тусклым зеркалом Canal Grande [4] всеми своими восемьюдесятью окнами, и, когда Лоренцо задавал балы, сотни гондол с факелами и разноцветными фонарями подъезжали сюда и отплывали, высаживая веселых гостей…
От этого чудесного воспоминания сумрак вокруг Лючии показался еще мрачнее. Не переставая кутаться в мех, она сползла с постели и, хвала Мадонне, не промахнулась, попав с первого раза в туфельки, а не на ледяной пол. Нашарила на столе подсвечник и ощупью побрела в залу – искать, от чего можно зажечь свечу.
Где-то вдали играла музыка, толпа журчала, точно река по каменным плитам. В окна было видно, как храм Святого Марка мерцал разноцветными отблесками, а над его причудливыми куполами сгущалась яркая вечерняя синева.
– Ох, ну и заспалась же я! – пробормотала, зевая, Лючия. – Надо поспешить. Пока соберусь… князь обещал заехать не позднее полуночи.
Ей стало знобко даже под мехом при воспоминании, как смотрел на нее Лоренцо, прощаясь: Лючия уже стояла на ступеньках террасы, а он – в гондоле, так что лица их были на одном уровне, и казалось, достаточно малейшего колебания волны, чтобы губы их соприкоснулись. И он прошептал – Лючия ощутила его жаркое дыхание:
– O bella donna [5], вы приобрели сегодня дурное знакомство! Я распутник по профессии!
За этими многообещающими словами, увы, ничего не последовало, и Лючия после неловкой паузы ушла в дом, усмехаясь про себя: о том же самом она могла бы и сама предупредить Лоренцо, только слово «распутник» следовало бы употребить в женском роде. Право же, Анджольери слишком мало еще прожил в Венеции, чтобы вести о похождениях несравненной Лючии Фессалоне в полной мере дошли до его ушей, а впрочем… впрочем, если она правильно прочла в его жгучих очах, он будет только счастлив узнать, что она дает куда больше, чем обещает, – хотя и обещает безмерно!
О господи, но где же отец? Где Маттео? Есть хоть кто-нибудь в этом темном доме?.. И тотчас послышался легкий шорох шагов по мраморным плитам. Лючия узнала торопливую, чуть заплетающуюся походку Маттео и с облегчением вздохнула. Сейчас он зажжет свет, подаст вина, принесет жаровню, согреет воду для ванны, сбегает в лавочку – у нее кончилась розовая пудра, а нынче ночью она хотела быть перед Лоренцо непременно в розовом, ну и волосы, разумеется, должны быть напудрены розовой пудрой. Розовое и золотое – она будет похожа на дивное лакомство, которое Лоренцо захочет, непременно захочет отведать. Но ему и не снилось, сколько будет стоить каждый глоточек, каждый кусочек… Пудра, да. И новые розовые шелковые туфельки – такие есть только в лавочке на Пьяццете, уж придется Маттео расстараться и сбегать туда. Но сначала – свет, а то Лючии как-то не по себе сегодня, беспрестанно знобит. И до чего тоскливо в этой темнотище!..
Однако появление Маттео с трехсвечником в руке не развеяло ее дурного настроения, ибо стоило ей взглянуть на лицо верного слуги, испещренное тенями смятения, как стало ясно – случилось нечто ужасное.
– Что произошло? – воскликнула Лючия, пытаясь возмущением разогнать подступившие страхи. – Где ты был? Почему меня не разбудили раньше? Где отец?
– О синьорина… синьорина, – прошептал Маттео и осекся, как если бы не в силах был молвить более ни слова.
– Ради всего святого! – топнула Лючия. – Tы меня пугаешь! Немедленно отвечай, что случилось, и давай приготовь мне ванну. До полуночи не больше трех часов, а ведь надо еще одеться, причесаться. Если мы заставим ждать князя Анджольери, отец будет очень недоволен, ты ведь знаешь!
Она ожидала от Маттео чего угодно: извинений, оправданий, торопливых хлопот, но только не того громкого всхлипывания, не этой гримасы боли, искривившей лицо, не слез, хлынувших обильным потоком, не этого задыхающегося шепота:
– Он умер, синьорина Лючия! Ваш батюшка умер! О, porca Madonna [6], лучше бы я оказался на его месте!
И Маттео зарыдал в голос, неловко утираясь левой рукой, продолжая сжимать в правой подсвечник, который дрожал в такт тяжелым рыданиям, и страшные тени плясали, метались, сталкивались на стенах осиротевшего палаццо Фессалоне.
***Иисусе сладчайший! Отец умер!.. Грузный, бородатый, настолько не похожий на мелких душою и телом венецианцев нынешних времен, что никто не признавал его за соотечественника: иные втихомолку считали его французом, иные – итальянцем откуда-то с юга; однако Лючии он всегда казался бесшабашным цыганом – не столько по происхождению, сколько по типу всесветного авантюриста. Да она ничего не имела против, ибо любила этого лукавого человека, стремившегося подражать патрициям былых времен, особенно своему обожаемому Пьетро Аретино [7], и даже мечтал о такой же смерти, какая поразила его кумира: Аретино умер, когда слушал какой-то непристойный рассказ и так бешено хохотал, что опрокинулся со скамьи затылком назад, на каменный пол, и расшибся. Однако, судя по словам Маттео, отец умер тоже мгновенно: мощным ударом он был сброшен в канал.
Маттео сообщил еще одну леденящую душу подробность, подтверждающую, что смерть Бартоломео Фессалоне – продуманное убийство, а не случайность: после того, как несчастный достаточно долго пробыл в воде, чтобы наверняка умереть, труп его положили на ступеньки палаццо, спускавшиеся в уединенный маленький каналетто, а к борту камзола прикрепили записку: «Impressario in angustia» – «Импресарио в затруднении». Точно так называлась одна из опер-буфф Чимарозы, и дело было даже не только в этом: Фессалоне в модных кругах давно прозвали Импресарио, ибо именно его хлопотами и заботами прекрасная Лючия стала той, кем стала: опасной светской авантюристкой и охотницей за мужчинами – вернее, их кошельками. И вот теперь impressario in angustia… а что же делать его актрисе?!
Она была так ошеломлена, что даже не могла плакать, и только недоверчиво вглядывалась в залитое слезами лицо Маттео.
О, Мадонна, что же сделал, что же мог сделать отец?!
Наверное, в отчаянии она выкрикнула вслух свои мысли, потому что Маттео удрученно покачал головой в ответ:
– Не знаю, синьорина. Этого я не знаю. Однако же вот что скажу вам: батюшка ваш – упокой господь его душу! – похоже, предчувствовал свою внезапную кончину и не единожды наставлял меня: «Маттео, – говорил principe [8] (верный слуга упорно именовал своего господина князем, хотя у того не было за душой ничего, кроме рассказов о былом великолепии рода Фессалоне), – Маттео, – говорил он мне, – тебе одному из всех людей я верю и только тебе могу вручить судьбу моей дочери. Запомни: если, упаси бог, я исчезну, если со мной что-нибудь случится, немедля отведи синьорину в мой тайный кабинет и открой секретный ящичек в стене – ты знаешь, о чем речь! Там она увидит свиток бумаг. Пусть прочтет их сразу, как только узнает о моей смерти. И если после этого она пожелает покинуть Венецию, даже не бросив горсти земли мне на гроб, знай, что я на том свете не буду на нее в обиде». Клянусь Мадонной, синьорина, – Маттео воздел два пальца, приняв самую торжественную мину, – principe говорил мне именно эти слова, а потому, прежде чем вы увидите его мертвое тело, извольте последовать за мной в его кабинет.
– Да ты спятил! – возмущенно воскликнула Лючия. – Убит мой отец, а я пойду читать какие-то старые письма?! Я должна узнать, кто свершил злодеяние, чтобы отомстить, а ты…
– А я, – перебил Маттео так твердо, как никогда еще не осмеливался говорить со своей госпожой, но при этом глядя на нее в восхищении, ибо она никогда не прибегала в минуты печали к обыкновенному утешению женщин – слезам, считая их ребяческой глупостью, дозволительной лишь слабым сердцам, и даже сейчас не рыдала, а желала мстить, – а я настаиваю, чтобы вы прежде всего пошли и исполнили последнюю волю покойного, а потом все остальное, не говоря уже о том, – добавил он, понизив голос, – что в письме вы можете найти указание на того неведомого врага, чья десница поразила вашего батюшку.
Лючия глянула на Маттео с меньшим негодованием. То, что он говорил, было разумно, а она всегда прислушивалась к доводам разума, ибо они звучали куда громче невнятного сердечного шепотка. Что ж, если так хотел отец… Она всегда поступала по его воле и ни разу не жалела об этом. Надо думать, не пожалеет и сейчас.
Лючия засветила свою свечу от тех, что держал Маттео, и холодно спросила:
– Чего же ты стоишь? Отец, кажется, велел отвести меня в его кабинет? Ну так веди!
И они пошли.
К удивлению Лючии, они без остановки миновали ту комнату, которую она всегда считала кабинетом князя: Маттео прошел через нее так же торопливо, как через приемную и гостиную, спальню и гардеробную своего господина, и ввел Лючию в просторную мыльню, где в бассейне тускло поблескивала вода. Ступая как можно осторожнее, чтобы не поскользнуться на порфировом влажном полу, он проследовал в нишу, где стояла назначенная для отдыха низкая, разлапистая скамья с удобно выгнутым изголовьем в виде лежащего грифона [9], и нажал на вполне обычную с виду каменную плиту. Но, как выяснилось, она была вовсе не обычной, а скрывала некое хитроумное устройство, ибо казавшаяся недвижимой скамья легко отъехала в сторону, и трепетный свет вырвал из мрака ступени узкой и крутой лестницу, ведущей куда-то вниз. И Лючия вспомнила слова отца, на которые она сперва не обратила внимания: «тайный кабинет». Тайный!
Конечно, это был никакой не кабинет, а просто каморка, находящаяся столь глубоко в подвалах дворца, что здесь царила особая промозглая сырость, и Лючии даже почудилось, будто она слышит тяжелое течение вод каналов, огибавших палаццо Фессалоне. Этого, конечно, никак не могло быть, слишком толстыми были стены, однако Лючия начала задыхаться в подвальчике, и с каждым мгновением ее била все более сильная дрожь: равно от холода и от волнения.
Ей неудержимо захотелось взбежать по лестнице, предав забвению это хранилище отцовых тайн вместе с ними со всеми. Почему-то казалось, что ничего хорошего ей не даст чтение каких-то там заплесневелых писем. И предчувствия ее не обманули, хотя бумаги вовсе не оказались заплесневелыми: они были надежно завернуты в вощаную бумагу.
Лючия нехотя развернула первый пакет и увидела стремительный, наклонный почерк:
«Дорогая моя Лючия! Если ты читаешь это письмо, значит, человека, известного тебе под именем Бартоломео Фессалоне, уже нет на свете. Похоже, кто-то из тех, перед кем я не раз грешил, наконец-то помог Паркам перерезать неровную нить моей жизни…»
Маттео так глубоко вздохнул в своем углу, что Лючии померещилось, будто вся тьма подвальная издала потрясенный вздох.
Что это значит, porca miseria [10]: «Человека, известного тебе под именем Бартоломео Фессалоне»? Так это не настоящее имя отца? Но когда так – она, стало быть, тоже не Фессалоне и даже, может быть, не Лючия?!
Обернулась к Маттео – из мрака поблескивали только его глаза: свеча отражалась в непролитых слезах:
– Ты знаешь, что здесь написано? Ты читал это?
– Да, – шепнул Маттео.
Ну разумеется! Этот хитрец всегда знал о своих хозяевах все и даже больше!
– Это правда – что пишет отец? Нет, быть не может!
– Умоляю вас, синьорина, читайте дальше не мешкая, – скорбно пробормотал Маттео. – И знайте: здесь все истинная правда, каждое слово!
Лючия хотела, по своей всегдашней привычке, заглянуть в конец письма, но почему-то побоялась взглянуть на подпись и, обреченно вздохнув, вновь принялась читать с самого начала.
***«Дорогая моя Лючия! Если ты читаешь это письмо, значит, человека, известного тебе под именем Бартоломео Фессалоне, уже нет на свете. Похоже, кто-то из тех, перед кем я не раз грешил, наконец помог Паркам перерезать неровную нить моей жизни. Всего тебе знать не нужно. Многое, очень многое я унесу с собой в могилу, и плевать мне на все проклятия, но хотя бы на том свете мне хотелось бы получить прощение от единственного существа, кое я истинно любил всю жизнь и перед кем повинен всех более. Это ты, Лючия…
Первый раз пишу тебе, не осмеливаясь более назвать дочерью, ибо, хотя я любил тебя со всей нежностью отеческой, ты мне, увы, не дочь. Грех мой, разумеется, не в том, что я удочерил тебя: сей поступок был бы засчитан мне за благодеяние даже и Всевышним Судией, когда б я извлек некоего младенца из грязи на высоты богатства, однако тебя, моя несравненная, обожаемая, дитя сердца моего, я оторвал от чаши, переполненной самыми счастливыми дарами судьбы, о каких можно только мечтать. О, тебе никогда не узнать, сколько раз я проклял себя за свершившееся… но что проку в оправданиях! Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад – где я сейчас, надо полагать, и варюсь в самой что ни на есть кипучей смоле, на самом жарком огне, который только может разжечь нечистая сила.
Но позволь мне поведать тебе о том, что произошло 18 лет назад.
Бьянка Фессалоне, та женщина, которую ты, никогда не видя, привыкла почитать своей матерью, тогда была еще жива. Она только что разрешилась от бремени, произведя на свет мертворожденную дочь. О Матерь Божия, наш ребенок, о котором мы с моей возлюбленной супругою столько лет бесплодно мечтали, родился мертвым! Это было для нас истинной катастрофой, ведь роды проходили так тяжело, что врач удостоверил: Бьянка никогда более не сможет иметь детей, даже если и останется жива, что будет подобно божьему чуду, так плоха была она.
Я был вне себя от горя, я умолял доктора приложить все усилия, я обещал отдать все, что у меня есть, для спасения жены, однако этому мерзавцу не было никакой охоты возиться с умирающей, а потом выслушивать проклятия безутешного супруга и, чего доброго, лишиться гонорара.
– Господь милосерд, – изрек он равнодушно, – и все мы – его дети. Пусть синьора пока полежит, объятая спасительным сном (так сказал он, хотя и слепому было ясно, что это уже не сон, а предсмертное беспамятство), а я сейчас отправлюсь к русскому князю Казаринофф – его супруга вот-вот должна разродиться! – и потом ворочусь к вам. Впрочем, извольте вперед расплатиться, синьор!
И он изящно пошевелил пальцами, не думая ни о чем, только об этом золоте, которым я должен был оплатить смерть дочери – и грядущую погибель жены. Pазумеется, он не собирался возвращаться, а потому спешил получить деньги.
Я сунул ему горсть цехинов, две горсти… я не соображал, что делаю. Я знал доподлинно: если даже Бьянка очнется, весть, что ребенок погиб, убьет ее быстрее пули, попавшей в сердце. В то время как сладостный крик младенца мог пробудить ее к жизни!
Решение родилось в моей голове мгновенно. Я не чувствовал себя ничем обязанным равнодушному врачу – я ненавидел его, как лютого врага. Он вышел из мрачной спальни – я за ним. Он ступил на крыльцо – я взмахнул рукою… Он упал. Я обшарил его карманы, взял его сак с инструментарием. Я не мог оставить доктора валяться здесь: очнувшись, он мог выдать меня. Один толчок – и баста! Канал шутить не любит. Вода сомкнулась над трупом, а я свистнул гондольеру и велел вести меня в палаццо близ моста Риальто, где остановился русский дипломат, у жены которого начались преждевременные роды. Но сначала… сначала я попросил свернуть в маленький каналетто на окраину, близ фабрик Морено, где жила одна женщина, занимавшаяся повивальным делом и известная по всей округе не столько мастерством своим, сколько умением обделывать самые разные делишки. Думаю, в каждом городе, большом и маленьком, есть такие особы. Для людей, хорошо плативших, у нее были, по слухам, свои загадочные и гнусные секреты. Она излечивала золотуху, поставляла приворотные зелья, пособляла девицам из зажиточных семейств, вмешивалась в интриги и даже колдовала для жителей округи. Ценила она свои услуги на вес золота и жила относительно благополучно. До сих пор страшно вспомнить сумму, которую я посулил ей, чтобы она исполнила мою волю. Впрочем, я все равно не заплатил, так что о чем беспокоиться?..
Итак, мы явились в дом этих русских. Князя, помнится мне, звали Серджио – по-русски Сергей; его княгиню – Катарина: если не ошибаюсь, это имя по-русски звучит совершенно так же. Я назвался именем злополучного доктора, повитуха тоже что-то такое выдумала, уж и не помню… Только очутившись у постели беспомощной женщины, я сообразил, какую ужасную авантюру затеял! По счастью, моя сообщница отменно знала свое ремесло, и через бессчетное, казалось мне, количество мгновений благополучно приняла младенца, которого я жадно схватил в свои объятия и устремился к окну, под которым ждала гондола. Я ожидал, что повитуха поспешит за мной, но она замешкалась, мол, нужно извлечь послед, чтобы княгиня не умерла от заражения крови, – и вдруг воскликнула: «Санта Мадонна! Это не послед, это головка второго ребенка!»
О Мадонна! Какое облегчение снизошло на мою душу! С удвоенной нежностью прижал я к сердцу новорожденное дитя. Значит, я никого не обездолил своей кражей!
Повитуха была особа весьма сообразительная и мгновенно смекнула, что теперь можно изобразить дело так, будто у княгини родилась не двойня, а всего лишь один ребенок. Не будет ни преследования, ни угрызений совести – она получит солидное вознаграждение от князя да еще сдерет с меня увесистый кошель золота!
Итак, мы условились о встрече завтра, когда я расплачусь с ней, и она осталась принимать второе дитя, в то время как я с ловкостью циркача выбрался из окна, не отнимая от сердца свою добычу.
В мановение ока гондола доставила меня домой. Я ворвался в спальню, положил дитя возле Бьянки. Чудная, белокожая девочка – я только сейчас толком разглядел ее – приоткрыла свой хорошенький розовый ротик и издала… нет, не крик, а нежный, мелодичный зов. И, словно услышав пение ангельских труб, моя дорогая Бьянка приподняла отяжелевшие ресницы, с восторгом взглянула на ребенка и прошептала: «Лючия! Жизнь моя, Лючия!» Это были ее последние слова, и мне, который не переставал с тех пор оплакивать ее, оставалось утешаться тем, что она умерла счастливой.
Нескоро я очнулся от приступа безумного горя – жалобный плач младенца заставил меня вернуться к жизни. Ты вернула меня к жизни, Лючия, ты стала моим счастьем! А я… боюсь, я не принес тебе счастья. Я так и не смог оправиться после смерти Бьянки. Сейчас мне кажется, что с тех пор я совершил всего два разумных поступка: сначала взял у повитухи нечто вроде ее чистосердечного признания о случившемся, свидетельские показания твоего происхождения. Уже тогда, 18 лет назад, я не сомневался, что нельзя быть уверенным в однообразии своей судьбы, – теперь и ты убеждаешься в истинности этих слов. Кстати, старуху я тотчас после этого сунул головой в канал: она не дала бы мне покоя, шантажировала бы меня, разорила бы, в конце концов… впрочем, я и так разорен. А второй поступок, которым я горжусь, это то, что я нашел для тебя учителя русского языка. Ты считала, что я просто забочусь о разносторонности твоего образования, настаивая, чтобы ты говорила по-французски, как француженка, по-немецки, как немка, по-английски, как англичанка, по-русски… надо надеяться, ты говоришь на своем родном языке достаточно хорошо, чтобы ощутить себя вполне своей среди своих в России, куда я самым настоятельным образом советую тебе отправиться как можно скорее. Немедленно!
В жизни я натворил немало глупостей, многим причинил беды. И ты, повторяю, моя первая – и наиболее настрадавшаяся жертва. Я – дурное, испорченное, развращенное существо. Одно общение со мной – человеком, который больше всего на свете, даже больше светлой памяти Бьянки, даже больше тебя, Лючия, любил свои пороки и деньги, на которые всячески можно потворствовать этим порокам, – самое общение со мной, самый воздух, который я выдыхал, увы, заразили тебя! Если бы не я… какая чистая, счастливая, безмятежная, богатая жизнь ждала бы тебя в далекой, сказочной России! Отец твой, князь Казаринофф (подлинный князь, заметь себе, не то что я, самозванец, авантюрист!), – один из богатейших людей страны. Ты составила бы блестящую партию с достойным человеком, а я… я сделал тебя охотницей за мужчинами, игралищем нечистых страстей. И за это мне нет прощения. Я и просить-то его не смею…
Не знаю, чья месть настигнет меня. Много, ох как много их, жаждущих моей крови! Может быть, сын того проклятого докторишки, который не смог вылечить Бьянку, наконец-то разгадал тайну смерти своего отца. Может быть, удар нанес тот юнец, раненный на дуэли, которого десять лет назад принесли в мой дом, и я выхаживал его со всей искренней заботливостью; правда, в его кармане я отыскал несколько чрезвычайно любопытных писем, компрометирующих одну из богатейших римских фамилий, – и продал вычитанные в них сведения за хорошие деньги, на которые мы долго жили безбедно, пока им не пришел конец, как он приходит всему в мире. А может быть, на меня напал возмущенный отец, чью дочь я соблазнил и покинул… имя им легион, этим девицам, гревшим мою постель, и их обесчещенным папашам. Но скорее всего меня прикончит какой-нибудь неудачник, которого я пустил по миру за карточным столом в «Ридотто», – их ведь тоже было немало, уходивших от меня с пустыми карманами и рухнувшими надеждами! А может быть, это вовсе неизвестный мне мститель придет – и сунет меня головой в черную воду или пырнет ножом во мраке уличного колодца, куда никакой светлый лучик не может прорваться сквозь обложившие его отовсюду гранитные толстые стены!
Да все это неважно. Важно другое! Я оставляю тебе в наследство ненависть пострадавших от меня людей. Она уничтожила меня – она может пасть и на тебя.
Как говорили в старину, рroximus ardet ucalegon [11]! Но, с другой стороны, fortes fortuna adjuvat [12].
Поверь, Лючия: если такое лживое, испорченное, распутное, алчное порождение мрака, как я, способно было любить, оно любило только двух женщин в мире: Бьянку – и тебя. Бьянка давно в раю, мне с нею не свидеться и за гробом, а тебя я заклинаю моей отеческой любовью или тем невнятным чувством, которое я так называю: оставь этот город разврата, роскоши и смерти. Покинь Венецию, и как можно скорее. Отправляйся в Россию! Там же, где ты нашла письмо, ты найдешь остатки моих сбережений. Тебе этого хватит на дорогу. Поезжай, найди семью Казаринофф, заяви о своих наследственных правах. Будь счастлива, будь удачлива, будь отважна!




