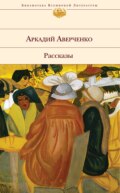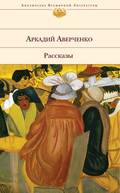Аркадий Аверченко
Юмористические рассказы
Русская история
Посвящается мин-ву нар. просвещения
I
Один русский студент погиб от того, что любил ботанику. Пошел он в поле собирать растения. Шел, песенку напевал, цветочки рвал. А с другой стороны поля показалась толпа мужиков и баб из Нижней Гоголевки.
– Здравствуйте, милые поселяне, – сказал вежливый студент, снимая фуражку и раскланиваясь.
– Здравствуй, щучий сын, чтоб тебе пусто было, – отвечали поселяне. – Ты чего?
– Благодарю вас, ничего, – говорил им студент, наклоняясь и срывая какую-то травинку.
– Ты – чего?!
– Как видите: гербаризацией балуюсь.
– Ты – чего?!!?!
Ухо студента уловило наконец странные нотки в настойчивом вопросе мужиков. Он посмотрел на них и увидел горящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные и жилистые кулаки.
– Ты – чего?!!?!
– Да что вы, братцы… Если вам цветочков жалко – я, пожалуй, отдам вам ваши цветочки…
И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них старик, Петр Савельев Неуважай-Корыто. Был он старик белый как лунь и глупый как колода.
– Цветочки собираешь, паршивец, – прохрипел мудрейший. – Брешет он, ребята! Холеру пущает.
Авторитет стариков, белых как лунь и глупых как колода, всегда высоко стоял среди поселян…
– Правильно, Савельич!.. Хватай его, братца… Заходи оттелева!
Студент завопил.
– Визгани, визгани еще, чертов сын! Может, дьявол – твой батя – и придет тебе на выручку. Обыскивай его, дядя Миняй! Нет ли порошку какого?
Порошок нашелся. Хотя он был зубной, но так как чистка зубов у поселян села Гоголевки происходила всего раз в неделю у казенной винной лавки и то – самым примитивным способом, то культурное завоевание, найденное у студента в кармане завернутым в бумажку, с наглядностью удостоверило в глазах поселян злокозненность студента.
– Вот он, порошок-то! Холерный… Как, ребята, располагаете: потопить парня али так, помять?
Обе перспективы оказались настолько не заманчивыми для студента, что он сказал:
– Что вы, господа! Это простой зубной порошок. Он не вредный… Ну, хотите – я съем его?
– Брешешь! Не съешь!
– Уверяю вас! Съем – и мне ничего не будет.
– Все равно погибать ему, братцы. Пусть слопает!
Студент сел посредине замкнутого круга и принялся уписывать за обе щеки зубной порошок. Более сердобольные бабы, глядя на это, плакали навзрыд и шептали про себя:
– Смерть-то какую, болезный, принимает! Молоденький такой… а без покаяния.
– Весь! – сказал студент, показывая пустой пакетик.
– Ешь и бумагу, – решил Петр Савельев, белый как лунь и глупый как колода.
По газетным известиям, насыщение студента остановилось на зубном порошке, после чего его якобы отпустили.
А на самом деле было не так: студент, морщась, проглотил пустой пакетик, после чего его стали снова обыскивать – нашли записную книжку, зубочистку и флакон с гуммиарабиком.
– Ешь! – приказал распорядитель неприхотливого студенческого обеда Неуважай-Корыто.
Студент хотел поблагодарить, указавши на то, что он сыт, но когда увидел наклонившиеся к нему решительные бородатые лица, то безмолвно принялся за записную книжку. Покончив с ней, раздробил крепкими молодыми зубами зубочистку, запил гуммиарабиком и торжествующе сказал:
– Видите, господа? Не прав ли я был, утверждая, что это совершенно безопасные вещи?..
– Видимое дело, – сказал добродушный мужик по прозванию Коровий-Кирпич. – Занапрасну скубента изобидели.
– Темный вы народ, – сказал студент, вздыхая.
Ему бы нужно было, ругнувши мужиков, раскланяться с ними и удалиться, но студента погубило то, что он был интеллигент до мозга костей.
– Темный вы народ! – повторил он. – Знаете ли вы, например, что эпидемия холеры распространяется не от порошков, а от маленьких таких штучек, которые бывают в воде, на плодах и овощах, – так называемых вибрионов, столь маленьких, что на капле воды их гораздо больше, чем несколько тысяч.
– Толкуй! – недоверчиво возразил Петр Савельев, но кое-кто сделал вид, что поверил.
В общем, настроение было настолько благожелательное, что студенту простили даже его утверждение, будто бы молния происходит от электричества и что тучи есть следствие водяных испарений, переносимых ветром с одного места на другое. Глухой ропот поднялся лишь после совершенно неслыханного факта, что Луна сама не светит, а отражает только солнечный свет. Когда же студент осмелился нахально заявить, что Земля круглая и что она ходит вокруг Солнца, то толпа мужиков навалилась на студента и стала бить…
Били долго, а потом утопили в реке. Почему газеты об этом умолчали – неизвестно.
II
Выгнанный за пьянство телеграфист Васька Свищ долго слонялся по полустанку, ища какого-нибудь выхода из своего тяжелого положения.
И совершенно неожиданно выход был найден в виде измятой кокарды, оброненной между рельсами каким-то загулявшим офицером.
– Дело! – сказал Васька Свищ.
Приладил к своей телеграфистской фуражке офицерову кокарду, надел тужурку, нанял ямщика и, развалившись в кибитке, скомандовал:
– Пшел в деревню Нижняя Гоголевка! Жив-ва!! Там заплатят.
Лихо звеня бубенцами, подлетела тройка к старостиной избе.
Васька Свищ молодцевато выскочил из кибитки и, ударив в ухо изумленного его парадным видом прохожего мужика, крикнул:
– Меррзавцы!! Запорю!! Начальство не уважаете?? Беспутничаете! Старосту сюда!!
Испуганный, перетревоженный, выскочил староста.
– Чего изволишь, батюшка?
– «Батюшка»? Я тебе, ррракалия, покажу – батюшка!! Генерала не видишь? Это кто там в телеге едет?.. Ты кто? Шапку нужно снять или не надо? Как тебя?
– Ко… Коровий-Кирпич.
Телеграфист нахмурился и ткнул кулаком в зубы растерявшегося Коровьего-Кирпича…
– Староста! Взять его! Впредь до разбора дела. Я покажу вам!!! Распустились тут! Староста, сбей мне мужиков сейчас: бумагу прочитать.
Через десять минут все мужики Нижней Гоголевки собрались серой, испуганной, встревоженной тучей.
– Тихо! – крикнул Васька Свищ, выступая вперед. – Шапки долой! Бумага: вследствие отношения государственной интендантской комиссии санитарных образцов с приложением сургучной печати, по соглашению с эмеритурным отделом публичной библиотеки – собрать со всех крестьян по два рубля десять копеек тротуарного сбора, со внесением оного в Санкт-Петербургский мировой съезд!.. Поняли, ребята? Виновные в уклонении подвергаются заключению в крепость сроком до двух лет, с заменой штрафом до 500 рублей. Поняли?!
– Поняли, ваше благородие! – зашелестели мужицкие губы.
– Благоро-о-оодие?!! – завопил телеграфист. – Меррзавцы!!! Кокарды не знаете? Установлений казенной палаты на предмет геральдики не читали?! Староста! Взять этого! И этого! Пусть посидят! Тебя как? Неуважай-Корыто? Взять!
Через час староста с поклоном вошел в избу, положил перед телеграфистом деньги и сказал робко:
– Может, оно… насчет бумаги… поглядеть бы… Касательно печати…
– Осел!!! – рявкнул телеграфист, сунул в карман деньги, брезгливо отшвырнул растерянного старосту с дороги и, выйдя на улицу, вскочил в кибитку.
– Я покажу вам, негодяи, – погрозил старосте телеграфист и скрылся в облаке пыли.
Мудрейший из мужиков Петр Савельев Неуважай-Корыто, белый как лунь и глупый как колода, подошел к старосте и, почесавшись, сказал:
– С самого Петербурху. Чичас видно! Дешево отделались, робята!
Почести
В № 11981 «Нового Времени» Меньшиков написал тысячный фельетон.
Меньшиков проснулся рано утром.
Спустил с кровати сухие с синими жилами ноги, сунул их в туфли, вышитые и поднесенные ему в свое время Марией Горячковской, и сейчас же подошел к окну.
– Погодка, кажется, благоприятствует, – пробормотал он, с довольным видом кивнул головой, – я рад, что погода не помешает народным массам веселиться в радостный для них день юбилея.
Одевшись, он зачерпнул из лампадки горстью масло и обильно смазал редкие, топорщившиеся волосы.
– Для ради юбилея, – прошептал он, ежась от струйки теплого масла, поползшей по сухой согнутой спине.
Через полчаса швейцар суворинского дома открыл на звонок дверь и увидел сидящего в ожидании на ступеньках лестницы Меньшикова.
– Ты чего, старичок, по парадным звонишься? – приветствовал его швейцар. – Шел бы со двора.
– День-то какой ноне, Никитушка!
– Какой день? Обнаковенный.
– Никитушка! Да ведь можешь ты понять, тысячный фельетон сегодня идет!
– Так.
– Ну, Никитушка?
– Да ты что, ровно глухарь на току топчешься? Хочешь чего, что ли?
– Поздравь меня, Никитушка!
– Экий ты несообразный старичок… С чем же мне тебя поздравлять?
– Никитушка!.. Тысячный фельетон. Сколько я за них брани и поношения принял…
– Ну, так что же?
– Поздравь меня, Никитушка.
– Эк ведь тебя растревожило. Ну что уж с тобой делать: поздравляю.
– Спасибо, Никитушка! Я всегда прислушивался к непосредственному голосу народа. Вот обожди, я тебе на водку дам… Куда же это я капиталы засунул? Вот! Десять копеечек… Ты уж мне, Никитушка, три копеечки сдачи сдай. Семь копеечек, а три копеечки мне… Хе-хе, Никитушка…
– На! Эх ты, жила.
– Не благодари, Никитушка… Ты заслужил. Это ведь говорится так – на водку, а ты бы лучше на книжку их в сберегательную кассу снес… Ей-богу, право. Сам-то встал?
– Встал. Иди уж. Ноги только вытри.
– К вам я, Алексей Сергеич…
– Что еще? Говорил я, кажется, что не люблю, когда ты на дом приходишь. Нехорошо – увидать могут. Если нужно что, можешь в редакции поманить пальцем в темный уголок – попросишь, что нужно.
– День-то какой нынче, Алексей Сергеич!
– А что – дождь?
– Изволили читать сегодня? Тысячный фельетон у меня идет.
– Ну?
– Можно сказать – праздник духа.
– Да ты говори яснее: гривенником больше хочешь за строчку по этому случаю?
– За это я вашим вечным молитвенником буду… А только – день-то какой!
– Да тебе-то что нужно?
– Поздравьте, Алексей Сергеич!
– Удивляюсь… Ну, скажи – зачем тебе это понадобилось?
Меньшиков переступил с ноги на ногу.
– Хочу, чтобы, как у других… Тоже, если юбилей, то поздравляют.
– Глупости все выдумываешь! Иди себе с Богом!
Придя в редакцию, Меньшиков подошел к столу Розанова и протянул ему руку.
– Здравствуйте, Василь Васильич!
Близорукий Розанов приветливо улыбнулся, осмотрел протянутую руку и повел по ней взглядом до плеча Меньшикова. С плеча перешел на шею, но когда дошел до лица, то снова опустил взгляд на бумагу и стал прилежно писать.
– Я говорю: здравствуйте, Василь Васильич!
– …Брак не есть наслаждение… – бормотал Розанов, скрипя пером. – Брак есть долг перед вечным…
От напряженного положения протянутая рука Меньшикова стала затекать. Опустить ее сразу было неловко, и он сделал вид, что ощупывает карандаш, лежавший на подставке.
– Странный карандашик… Таким карандашиком неудобно, я думаю, писать…
Меньшиков опустился на стул, рядом со столом Розанова, и беззаботно заговорил:
– А я сегодня тысячный фельетон написал. Ей-богу. Можете поздравить, Василь Васильич… Много написал. Были большие фельетоны, и маленькие были. Да-с… Сегодня меня, впрочем, уже многие поздравляли: швейцар Никита – этакий славный чернозем! Алексей Сергеич поздравляли…
– Всякое половое чувство должно быть радостным и извечным… – бормотал, начиная новую страницу, Розанов.
– Я уж так и решил, Василь Васильич: напишу фельетон о печати! Хе-хе! Изволили читать? Вы где, на даче в этом году живете? Впрочем, я думаю, что разговор со мной отвлекает вас? Ухожу, ухожу. Люблю, знаете, с приятелем в беседе старое вспомнить… До свиданья, Василий Васильич…
Меньшиков протянул опять руку, подержал ее три минуты, потом потрогал пресс-папье и сказал одобрительно:
– Славное пресс-папье!
Старческими шагами побрел к кабинету А. Столыпина.
– Здравствуйте, Александр Аркадьич!
Меньшикову очень хотелось, чтобы Столыпин, хотя бы по случаю юбилея, пожал ему руку. Но старый, усталый мозг не знал – как это сделать?
Постояв минут десять у стола Столыпина, Меньшиков пустился на хитрость:
– А вы знаете – через три минуты будет дождь…
– Вечно ты, брат, чепуху выдумываешь, – проворчал Столыпин.
– Ей-богу. Хотите пари держать?
Простодушный Столыпин попался на эту удочку.
– Да ведь проиграешь, старая крыса?
Однако руку протянул. Меньшиков с наслаждением, долго мял столыпинскую руку. Когда Столыпин вырвал ее, Меньшиков хихикнул и, довольный, сказал:
– Спасибо за то, что поздравили!
Потом Меньшиков ушел из редакции и долго бродил по улицам, подслушивая, что говорит народ о его юбилее.
Никто ничего не говорил. Только в трамвае Меньшиков увидел одного человека, читавшего «Новое Время».
Подсел к нему и, хлопнув по своей статье, радостно засмеялся.
– Что вы думаете об этой штуке?
Читавший сказал, что он думает.
Меньшиков вышел из трамвая и долго шел без цели, бормоча про себя:
– Сам ты старый болван! Туда же – в критику пускается.
Вечером сидел у кухарки на кухне и рассказывал:
– Устал я за день от всего этого шума, поздравлений, почестей… Начиная от швейцаров – до Столыпина – все, как один человек. А Столыпин… чудак, право… Схватил руку, трясет ее, трясет, пожимает – смех, да и только! Старик тоже – увидел меня, говорит: что нужно – проси! Отведи в уголок и проси. Ей-богу, не вру! Хочешь, говорит, надбавить – надбавлю. Публика тоже… В трамваях тоже… Обсуждают статью.
Ночью он долго плакал.
Робинзоны
Когда корабль тонул, спаслись только двое: Павел Нарымский – интеллигент, Пров Иванов Акациев – бывший шпик.
Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу. Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:
– Ваш паспорт!
Голый Нарымский развел мокрыми руками:
– Нету паспорта. Потонул.
Акациев нахмурился.
– В таком случае я буду принужден…
Нарымский ехидно улыбнулся:
– Ага… Некуда!
Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом, молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.
* * *
Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков дом.
Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал:
– Ага! Попался! Вы это что делаете?
Нарымский улыбнулся:
– Предварилку строю.
– Нет, нет… Это вы дом строите?! Хорошо-с!.. А вы строительный устав знаете?
– Ничего я не знаю.
– А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?
– Отстанете вы от меня?
– Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения.
Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь.
Акациев тяжко вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.
Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.
Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи. Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и выстрелил.
Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:
– Ага! Попался… Вы имеете разрешение на право ношения оружия?
Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами:
– Чего вы пристаете? Занимались бы лучше своими делами.
– Да я и занимаюсь своими делами, – обиженно возразил Акациев. – Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение впредь до разбора дела.
– Так я вам и отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!
– За находку вы имеете право лишь на одну треть… – начал было Пров, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил: – Вы еще не имеете права охотиться!
– Почему это?
– Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?
– А у вас календарь есть? – ехидно спросил Нарымский. Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:
– В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.
– Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки!
Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.
* * *
Возвращался Нарымский другой дорогой.
Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.
Приблизившись, прочел: «Езда по мосту шагом».
Пожав плечами, наклонился, чтоб утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:
«Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные подвергаются…»
Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собой мрачного и решительного Прова Акациева.
– Что вам угодно?
– Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений…
– А предписание вы имеете? – лукаво спросил Нарымский.
Акациев тяжко застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты.
Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:
– Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания и вы не заявили о хранении их начальству – виновные подвергаются…
Нарымский сладко спал.
* * *
Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.
Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.
Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника.
– Вы… живы? – с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.
– Жив. – Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. – Скажите… Вот вы рисковали из-за меня жизнью… Спасли меня… Вероятно, я все-таки дорог вам, а?
Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, и просто, без рисовки, ответил:
– Конечно, до`роги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутораста лет.
И, помолчав, добавил искренним тоном:
– Дай вам бог здоровья, долголетия и богатства.
Путаница
Радостный трезвон праздничных колоколов – самая предательская вещь… Я не знал ни одного самого закоренелого злодея, который устоял бы против радостного перезвона праздничных колоколов… Были случаи, когда такого закоренелого злодея пытали, мучили, желая вырвать у него хотя бы словечко правды о его преступлении, – он молчал, будто воды в рот набравши… Но стоило только радостно и празднично зазвонить над его ухом, как он вспоминал свою молодость, каялся, плакал и, рассказавши всю подноготную, обещался вести новую жизнь.
Иногда его даже и за язык никто не тянул – признаваться. Но стоило только потянуть за язык колокола – преступник без промедления вспоминал свою молодость и каялся во всем, разливаясь в три ручья.
Таково уж странное свойство праздничного перезвона.
* * *
Старый провокатор, носивший партийное прозвище – Волк, сидел в своей большой неуютной комнате и тревожно прислушивался к радостному перезвону праздничных колоколов.
Он вспомнил свою молодость, мать, ведущую его, маленького, чистенького, в церковь, и этот перезвон – мучительно радостный и ожидательно-праздничный.
И когда он подумал о своем теперешнем поведении, о своем падении в пропасть предательства – сердце его сжалось и на глазах выступили слезы… А колокола радостно гудели:
– Бом-бом! Бом-бом!
– Нет! – простонал провокатор. – Больше я не могу!.. Сердце мое разрывается от раскаяния!.. Довольно грешить! Пойду и признаюсь во всем – пусть делают со мной что хотят. Никогда не поздно раскаяться в своих грехах…
Он оделся и вышел из дому.
* * *
Идя по улице, Волк бормотал себе под нос:
– Пойду прямо в полицию и расскажу все начистоту: как я выдавал революционерам ее тайны и как я однажды стянул со стола полковника предписание об обыске у своего знакомого эсэра. Все выложу! Пусть сажает в тюрьму, пусть делает со мной что хочет!..
– Бом-бом! Бом-бом! – радовались колокола. По мере приближения к дому полковника шаги Волка все замедлялись и движения делались нерешительнее и нерешительнее.
Новое чувство зажигалось в груди старого Волка.
– Куда я иду? – думал он. – Разве мне сюда нужно идти каяться? Кому я делал тяжкий вред? Кого продавал? Товарищей! А они мне доверяли… Ха-ха! Туда и иди, старый Волк! Перед ними и кайся!
Взор его просветлел.
Он решительно повернулся и зашагал в обратную сторону, по направлению конспиративной квартиры товарища Кирилла.
– Приду и прямо скажу: так и так, братцы! Грешник я великий, за деньги продавал вас – простите меня или сделайте со мной что хотите.
Он всхлипнул и вытер глаза носовым платком.
Ему самому было жаль себя. Вдали показались окна квартиры товарища Кирилла.
– Приду и скажу, – бормотал Волк. – Обманывал я вас!.. И полицию обманывал, и вас обманывал. Полицию даже больше.
Он замедлил шаг, остановился и задумался.
– Гм… Ведь, если я полицию больше обманывал, я перед нею и должен каяться… Ей я и должен признаться, что вел двойную игру. Она не виновата в том, что она полиция, – она исполняет свои обязанности. Бедненький полковник… Сидит теперь дома и думает: «Вот придет Волк, парочку сведений принесет». А я-то!
– Бом-бом! Бом-бом! – разливались колокола.
Волчьи глаза увлажнились слезами.
Он решительно повернул и пошел назад.
– …Сидит он и думает: «придет Волк, принесет парочку сведений». Хорошо у него, уютно. Лампа горит, на стенах картинки… Тепло. Это не то, что те, которые недавно влопались. Сидят по камерам и скрипят зубами. Поддедюлил вас Волк!
Он вздохнул.
– А ведь им теперь, поди, холодно, голодно, в камерах каменные полы. Они мне доверяли, думали – свой, а я… Эх, Волк! Глубока твоя вина перед ними, и нет ей черты предела.
– Бом-бом! – ревели колокола. – Покайся, Волк! Бом-бом!
Схватившись за голову, застонал несчастный и побежал к товарищу Кириллу.
– Все скажу! Руки их буду целовать, слезой изойду. Где моя молодость? Где моя честность?
* * *
К Кириллу Волк не зашел.
Долго стоял он на улице, раздираемый сомнениями и обуреваемый самыми противоположными чувствами. Ему смертельно хотелось покаяться, никогда так, как теперь, не жаждал он очищения, умиротворения мятущейся души своей, и долго стоял так Волк на распутье:
– Куда идти?
И не знал.
Мимо него быстро прошел человек, лицо которого показалось Волку знакомым. Отложив на минуту раскаяние, Волк подумал:
«Где я видел этого человека? Да, вспомнил! Это Мотя. Я его частенько встречал в полиции!»
В Волке проснулись профессиональные привычки.
«Куда это он идет? Ба! Да ведь это подъезд товарища Кирилла!.. Неужели…»
Волк догнал Мотю и положил ему руку на плечо. Мотя обернулся, сконфузился и растерянно сказал:
– А, Волк! С праздником вас.
Но сейчас же он оправился, и его пронзительные глаза устремились на Волка.
– Вы… тоже сюда?
– Да, – сказал Волк, а про себя подумал: «Не думает ли он на меня донести, червяк поганый! Хорош бы я был перед Кириллом».
Он переступил с ноги на ногу и сказал:
– Видите ли, Мотя… Мне почему-то хочется быть с вами откровенным: я, в сущности, партийный работник, а в полицию хожу так себе… для пользы дела!
– Вот и прекрасно! – обрадовался Мотя. – Тогда и я буду откровенен: ведь я, признаться, проделываю то же самое!
Но в глазах Моти Волк заметил странно блеснувший огонек, который слишком поспешно был потушен опустившимися веками.
«Эге!» – подумал Волк и, рассмеявшись, дружески хлопнул Мотю по плечу.
– К черту уловки и хитрости! Я вижу – вы парень ой-ой какой. Ведь я насчет партийности-то подшутил над вами. Ну, какой я, к черту, партийный работник, когда на днях типографию провалил.
– Ха-ха! – закатился хохотом Мотя. – То-то! Сообразили.
Но смех его показался Волку фальшивым, а глаза опять блеснули и погасли.
«Господи! – подумал, растерявшись, Волк. – Ничего я не разберу. Зачем бы ему являться к Кириллу, если он гласно работает на отделение? С другой стороны… Гм…»
Мотя раздумывал тоже.
Так они долго стояли, в недоумении рассматривая друг друга.
«Пойди-ка, влезь в его душу, – думал растревоженный Волк. – Ну, времечко!»
«Черт его знает, чем он, в сущности, дышит, – досадливо размышлял Мотя. – Ну, времена!»
Постояв так с минуту, оба дружески улыбнулись друг другу, пожали руки и разошлись – Мотя наверх, по лестнице, а Волк на улицу.
Выйдя на воздух, Волк вздохнул и прислушался: колокола перестали звонить.
«Ага! – облегченно подумал Волк. – То-то и оно. А то – каяться!»
Не размышляя больше, зашагал он к полковнику и вызвав его, сообщил, что Мотя очень подозрителен, что он шатается по конспиративным квартирам и что за ним надо наблюсти.
А Мотя в это время сидел в квартире Кирилла и говорил, опасливо озираясь:
– Подозрителен ваш Волк… Шатается к полковнику, и, вообще, не мешало бы за ним наблюсти!..