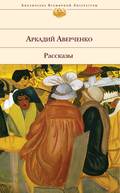Аркадий Аверченко
Юмористические рассказы
Большое сердце
Рождественский рассказ
Серое, темное небо нависло над землей… Снег валил большими хлопьями, устилая белым покровом улицы, по которым сновала веселая предпраздничная толпа, совершая разные закупки, необходимые для великого праздника…
Старый чиновник Слякин стоял у запорошенного снегом окна и печально глядел на улицу, полную озабоченных спешащих людей.
«Боже, – думал он, и его добрые, сияющие глаза туманились непрошеными слезами. – Боже! Такая великая праздничная ночь, и сколько в это же время обездоленных людей, лишенных крова, теплого угла и маленькой, изукрашенной игрушечками елочки. О, как бы мне хотелось принести радость хоть немногим, обогреть хотя одного несчастного и дать малым ребяткам, лишенным этого, хотя одну веселую, праздничную елочку. Боже ты мой… Сколько на свете холода, горя и несчастья!»
Чиновник Слякин надел шубу, шапку и, полный грустных и сладких мыслей, вышел из дому.
Оживленная толпа мощным потоком неслась мимо него, а он, остановившись на углу, долго стоял и думал: «Какие они все равнодушные, сухие… Никому ни до кого нет дела… А в это же самое время среди них, может быть, сотни голодных, нуждающихся, лишенных тепла и участия…»
Около него остановилась собака, уткнула нос в его галоши и, тихонько повизгивая, тряхнула спиной, занесенной снегом.
– Бедная бесприютная собачка, – сказал растроганный Слякин, наклоняясь к ней. – Бродишь ты по улицам, и никому нет до тебя дела. Пойдем со мной, я накормлю тебя и уложу на теплый-теплый коврик.
Слякин протянул руку к собаке, но она громко залаяла, открыла пасть и крепко впилась в Слякинову руку острыми белыми зубами.
– Вы зачем, черт вас забери, мою собаку дразните? – послышался около него сердитый голос, и вышедший из магазина офицер сурово поглядел на растерявшегося Слякина.
– Я хотел собачку… домой отвести… согреть.
– Ха-ха! – грубо расхохотался офицер. – У вас губа не дура. Породистого сторублевого водолаза взять домой! В участок бы вас свести нужно, а не домой!.. Hepo, ici![1]
А волны озабоченных равнодушных людей по-прежнему неслись куда то вдаль, заменяемые все новыми и новыми волнами…
Шагая по улице, Слякин, закутанный в теплый воротник пальто, грустно думал: «Ветер воет, и в степи теперь страшно, как будто тысячи разбушевавшихся дьяволов справляют свой праздник… Плохо в это время путнику, которого застигает в пути непогода… Ветер, забираясь в прорехи его жалкого платья, будет леденящим дыханием морозить несчастного, и вой далеких волков, чующих скорую поживу, зазвучит ему похоронной песней. И он идет пешком, утопая по колена в снегу, так как несчастному не на что было нанять бойкую неутомимую лошадку… И он идет сгорбившись, пытаясь закутаться в плохо греющий воротник, молча, без единого звука…»
Слякин смахнул непрошеную слезу и свернул в малолюдный переулок.
Мимо него прошел, сгорбившись, пытаясь закутаться в воротник пальто, неизвестный человек.
Сердце Слякина сжалось.
– Послушайте… эй! Путник! Обождите.
Он догнал прохожего и, молча, сунул ему в руку три рубля.
Прохожий остановился поднял из воротника изумленное лицо и поглядел на Слякина.
– Это… что значит?
– Это вам, путник. Дорога вам, я знаю, предстоит дальняя, а лошадок нанять не на что. Не благодарите! Чем могу, помог. А в поле будто тысячи разбушевавшихся дьяволов празднуют…
– Да как вы смеете! – взревел прохожий. – Да вы знаете, кто я? Да я вас в двадцать четыре часа… Этакая наглость!
Его щегольская шинель распахнулась, и на груди блеснуло золотое шитье и несколько искрящихся при свете фонаря орденов.
– Извините… – пролепетал Слякин.
– Безобразник! С каких пор успел нарезаться!.. Проходите!
Ветер все крепчал.
Декабрь давал себя знать, и Слякин, выйдя снова на многолюдную широкую улицу, печально размышлял: «А сколько детей, этих – по выражению поэта – цветов жизни, бродят сейчас по улице, рассматривая выставленные в роскошных витринах вкусные вещи, которые, увы, не для них… Не для этих пасынков на жизненном пиру».
Горло его перехватило от слез, и сердце сжалось.
У роскошной витрины кондитерской стояла девочка и жадно рассматривала выставленные торты и конфекты.
– Бедное дитя! – пробормотал Слякин, хватая девочку за руку. – Несчастный бесприютный ребенок… Пойдем со мной, я тебя накормлю и обогрею в эту святую ночь.
– Maman! – закричала испуганная девочка. – Maman! Oú me tire-t-il?[2]
Рассматривавшая соседнюю витрину модного магазина дама ахнула и подбежала к девочке.
– Оставьте ее, скверный старикашка! – закричала она. – Пустите ее, или я ударю вас по голове зонтиком. Как вы смеете хватать ее за руку и тащить?!
– Наглость этих сладострастных павианов переходит всякие границы, – сказал господин, проходя мимо.
– Они уже стали хватать свои жертвы на многолюдных улицах среди тысячной толпы!..
– Уверяю вас, – сказал Слякин. – Я только хотел взять эту девочку к себе домой и приютить ради этой ночи, которая…
– Вы негодяй! – сказала возмущенная дама. – Nadine, ты не должна слушать того, что он говорит. Пойдем скорее…
А снег все падал…
Слякин снова свернул в безлюдный переулок и, печальный, шагая по обледеневшей мостовой, думал: «О, как бы хотелось мне принести радость, облегчить нужду и горе хотя бы одному человеку… Но настоящая бедность горда и прячет свои лохмотья… Нужно много деликатности и такта, чтобы не оскорбить бедняка и не подчеркивать своего благодеяния».
С ним поравнялся, заглядывая ему в лицо, высокий человек в рыжем пальто, подпоясанном веревкой, и в фуражке с полуоторванным козырьком.
«Вот оно», – подумал умиленный Слякин и начал тихим деликатным голосом:
– Погода дурная, неправда ли?
– Погодка сволочная, – согласился незнакомец.
– Вы, вероятно, выходя из дому, забыли тепло одеться? – деликатно спросил Слякин. – Я думаю, десять рублей, взятые у меня заимообразно, могли бы до известной степени урегулировать этот пустяковый вопрос. А?
– Нет, ты мне лучше пальто дай, – возразил незнакомец. – Снимай-ка его, живей!
– А… как же я?.. – удивился Слякин.
– А я тебе свое барахло дам. Ну, живей, старичок. А где твои десять рублей? Дай-ка мне их, дядя. Тут больше? Ну, все равно. А часики… золотые? Чего ж ты, дьявол, серебряные носишь?
Вьюга разыгралась, и снег беспрерывными хлопьями падал на белую землю.
По улице шагал старик в рваном, подпоясанном веревкой полушубке и изорванных сапогах и что-то ворчал себе под нос.
Маленький, одетый в женскую кацавейку мальчик подошел к нему и, дрожа от холода, пролепетал:
– Дядинька… Ради праздничка…
– Ради праздничка?! – закричал Слякин. – Вот тебе, маленький негодяй!
Слякин схватил мальчишку и, дав ему несколько шлепков, принялся усердно драть за уши…
И это было единственное доброе дело, совершенное Слякиным, потому что оборванный мальчишка совсем замерзал, а шлепки и пощечины быстро согрели его спину и красные уши…
Еропегов
I
Недавно ко мне зашел мой приятель Еропегов и среди разговора вдруг, будто что-то вспомнив, всплеснул руками.
– Да! Чуть не забыл… С тобой очень хочет познакомиться Демкин.
– Какой Демкин?
– Демкин! Очень симпатичный парень. Я ему много о тебе говорил. Тебе с ним обязательно нужно познакомиться.
Я пожал плечами.
– Ему что-нибудь от меня нужно?
– Ну вот видишь, вот видишь, какой ты сухой, черствый человек. Сейчас – «нужно»! Просто он тобой очень интересуется – я ему так много рассказывал о тебе… Почему же вам не познакомиться?
Еропегов был известен мне за человека крайне порывистого, нелепо-суетливого и восторженного.
Поэтому я еще раз пожал плечами и спросил:
– Да он что же, по крайней мере, интересный человек?
– Он? Удивительный! Стихи пишет.
– Да что ж тут удивительного: и я пишу стихи.
– И ты удивительный человек. Я знаю, ты о себе преувеличенно скромного мнения, но… эх, брат! О чем там говорить. Так можно его привести к тебе? В нем, между прочим, есть еще одно драгоценное качество: незаменимо рассказывает анекдоты!
– Ну что ж – приводи.
– Очень тобой интересуется. А анекдоты – ты животики надорвешь.
II
На другой день, сидя в кабинете, я услышал звонок и потом шум какой-то борьбы в передней.
– Да пойдем! Чего ты, чудак, стесняешься? – слышался голос Еропегова.
– Уверяю же тебя, что неудобно. Ну как это так вдруг, ни с того ни с сего, явиться к незнакомому человеку знакомиться! – доносился до меня другой голос.
– Пустяки! Он тобой очень интересуется. Я так много рассказывал ему о тебе. Ты ему доставишь только удовольствие! Расскажешь два-три анекдота – посмеемся. Раздевайся! Тут запросто.
– Да почему ему так хотелось со мной познакомиться?
– Ну как же! Он тоже стихи пишет…
Дверь отворилась, и на пороге показался оживленный Еропегов, таща за руку конфузливо упиравшегося черного человека, с кривыми ногами и мрачным унылым взглядом впалых глаз.
– Вот он, проказник! Насилу приволок… Ффу!.. Познакомьтесь, господа!
Демкин застенчиво пожал мою руку и сел, скривив голову набок.
– Вот, брат, тот Демкин, о котором я говорил. Стихи пишет! Поэт.
Поэт сконфузился и занялся своими ногами: одну подвернул под кресло, а на носок другой стал пристально смотреть, будто не веря глазам, что он еще обладает этой частью тела.
Руки решительно затрудняли его: сначала он сложил их на коленях, непосредственно за тем перенес их на грудь и в конце концов подпер одной рукой бок, а другой стал обмахивать лицо, покрасневшее от уличного холода.
– Вы действительно пишете стихи? – спросил я, желая ободрить его.
– Пишу, – отвечал он надтреснутым голосом. – Только так, для себя…
Этот человек трогал меня до слез своим жалостным видом. Я решительно недоумевал: зачем Еропегов притащил его?
– Нет, ты, брат, расскажи лучше анекдотик какой-нибудь. Изумительно анекдоты рассказывает, – обратился ко мне оживленный, веселый Еропегов. – Право, расскажи!
Демкин потупил голову и гудящим, унылым голосом покорно начал:
– Один купец пришел в ресторан. Видит – висит клетка с соловьем. «Сколько, – говорит, – стоит». – «Триста рублей». – «Зажарьте».
– Этот анекдот мне известен, – сказал я. – Купец, когда зажарили, сказал: отрежьте на три копейки. Да?
– Да, да, – кивнул головой Демкин. – А то другой анекдот есть: армянин застал жену с приказчиком на диване. Они целовались, и он…
– Знаю! – перебил я. – Потом он еще диван продал.
Демкин тяжело вздохнул и замолчал.
– Ты расскажи о еврее, который пришел в театр, а потом ушел, не желая ждать, когда прочел в программе, что между вторым и третьим действием проходит полтора месяца, – подсказал Еропегов.
Мрачный Демкин покорно рассказал анекдот об еврее.
Анекдот был тоже мне знаком, но я сделал вид, что впервые услышал его, и поэтому насильственно смеялся.
Еропегов громко хохотал и одобрительно повторял:
– Этакий весельчак! Удивительно! Вот ему бы, – обратился он ко мне, – с Подскокиным познакомиться! Надо будет их познакомить. Да что, брат, там думать… Пойдемте сейчас все к Подскокиным. Они будут очень рады.
Я категорически отказался, ссылаясь на работу.
Демкин встал и стал прощаться со мной. Еропегов хлопал его по плечу, одобрительно говоря:
– Уморушка с тобой! То есть откуда у него берутся эти анекдоты?! Прямо удивительно!
Потом я слышал, как Еропегов говорил Демкину в передней:
– Ты, брат, к нему запросто приходи! Он очень будет рад. Ну, как он тебе понравился? Не правда ли – душа человек?.. А сейчас мы к Подскокиным.
– Да я ж с ними незнаком!
– Пустое! Они очень будут рады.
III
На днях я собирался ехать в Москву. Услышав об этом, Еропегов всплеснул руками и спросил меня:
– Ты где же думаешь остановиться?
– В гостинице. Мне на два дня.
– Ну не чудак ли?.. Я всегда говорил, что ты – форменный чудак! Поезжай прямо к Коле Полтусову и остановись у него.
– К какому Коле Полтусову?
– Ты не знаешь Кольку? Он не знает Кольку! Тебе стоит только явиться к нему и сказать: «Привез вам поклон от Алеши!» Он тебя в объятиях задушит.
Глаза его увлажнились слезами.
– Да… – прошептал он, будто охваченный потоком нахлынувших воспоминаний. – Коля Полтусов… Сколько у меня связано с этим именем… Наши кутежи, попойки… Милый, непосредственный Коля… Нет, брат! Ты его обидишь, если не придешь прямо к нему. У него ты великолепно устроишься на эти два дня.
– Но как же мне поехать к незнакомому человеку? Ведь это ты с ним друг. А мне он незнаком.
– Колька незнаком?! Николай Полтусов незнаком? – вскричал Еропегов. – Ну, ты, милый, меня уморить хочешь. Вас через час водой не разольешь! Прямо скажи – поклон от Алеши! Ну согласись… ведь ко мне ты бы поехал? Почему же к нему не хочешь? Ты скажи только – я друг Алеши! И довольно. И довольно!!
Я спорил с Еропеговым около часа, и наконец он победил меня своей стремительностью, взяв торжественное слово, что я по приезде в Москву направлюсь прямо к Полтусову.
– Но ведь не могу же я ему сказать: «Приютите меня». Это неудобно!
– Этого и не надо. Он сам в тебя вцепится. Да… Коля Полтусов… Что-то ты сейчас делаешь там, в своей Москве?! – растроганно прошептал Еропегов.
IV
Приехав в Москву, я прямо с вокзала поехал по данному мне адресу и действительно увидел подъезд с металлической дощечкой на дверях:
«Николай Карпович Полтусов, присяжный поверенный».
Меня впустили и через минуту ввели в кабинет Полтусова, высокого пожилого господина, недоумевающе поднявшегося мне навстречу.
– Здравствуйте, – сказал я, отрекомендовавшись. – Привез вам поклон от Алеши.
– От какого Алеши? – спросил он.
– От Алексея Петровича Еропегова, вашего друга.
– Алексея… Агапеньева?.. Что-то… такого я не знаю, – задумчиво сказал Полтусов.
– Не Агапеньева, а Еропегова.
– Еропегова?.. Гм… Да он какой из себя?
– Высокий такой, костлявый. Вечно суетится.
Полтусов потер лоб.
– Не припомню… Что за странность!..
– Да вы Полтусов? Ваше имя Николай?!
– Да.
– Ну как же вы его не помните?! Он еще вспоминал о ваших попойках, о каком-то кутеже в «Славянском базаре»…
Полтусов задумался.
– Он не брюнет ли такой, с размашистыми движениями?.. Еще всех знакомить любит?..
– Он! – вскричал я. – Конечно, Еропегов!
– Теперь я припоминаю. Мы с компанией однажды сидели в «Славянском базаре» за столиком, а этот господин, сидя рядом, со своим знакомым подошел потом к нам и сам представился. Помню, помню. Он еще предлагал мне выпить на брудершафт, да я отказался… Ну что за смысл пить с почти незнакомым человеком… Не правда ли?
Я встал, пробормотал несколько слов извинения и, опрокинув стул, поспешно ушел от Полтусова, боясь оглянуться, чтобы не встретиться с его глазами.
V
– Ну что? – спросил Еропегов, радостно приветствуя меня по возвращении из Москвы. – Как Коля?
– Ничего. Просил тебе кланяться, – усмехнулся я.
– Вот видишь! Ты, конечно, у него остановился?
– О да. Он меня принял как родного. Одно твое имя раскрыло передо мной все двери.
– Ну вот видишь! Я всегда говорю, что человеческие отношения должны быть самыми простыми и задушевными.
Он посмотрел на меня, помолчал и потом, подумав немного, сказал:
– Тебе нужно отдохнуть среди природы. Тебе нужно поехать в Новоузенский уезд.
– Почему именно в Новоузенский?
– Там живет семья помещика Козулевича. Прекрасные люди! Право, поезжай. Они тебя как родного примут. Чего, в самом деле.
– Ты хорошо знаком с ними? – усмехнулся я.
– Я не знаком, но мне Демкин много говорил о них. Славные такие люди! Они будут тебе бесконечно рады…
Апостол
I
Всякий вдумчивый, наблюдательный человек уже заметил, вероятно, что богатство дядюшек прямо пропорционально расстоянию, которое отделяет их от племянников.
Всякий вдумчивый, наблюдательный человек замечал, что самые богатые, набитые золотом дядюшки всегда поселяются в Америке… Человеку, желающему быть миллионером, достичь этого, со времени великого открытия Колумба, очень легко: нужно обзавестись в Европе племянниками, сесть на пароход и переехать из Европы в эту удивительную страну. Совершив это – вы совершили почти все… Остаются пустяковые детали: сделаться оптовым торговцем битой свининой, или железнодорожным королем, или главой треста нефтепромышленников.
Если дядюшка живет где-либо в Англии, племяннику его уже никогда не придется увидеть миллионов… В лучшем случае ему попадут несколько сот тысяч.
И чем ближе к племяннику, тем дядюшка все беднеет… Сибирь приносит племяннику всего несколько десятков тысяч, какая-нибудь Самара – тощий засаленный пучок кредиток, и, наконец, есть такой предел, такая граница, где дядюшка не имеет ничего. Перевалив эту границу, дядюшка начинает быть уже отрицательной величиной. Если он живет в двадцати верстах от племянника, то таскается к нему каждую неделю, поедает сразу два обеда, выпрашивает у племянника рубль на дорогу и втайне мечтает о гнусном, чудовищном по своей противоестественности случае: получить после смерти племянника его наследство.
Хотя у меня и есть дядюшка, но я им, в общем, доволен: он живет в Сибири.
II
Однажды, когда я сидел за обедом, в передней послышался звонок, чьи-то голоса – и ко мне неожиданно ввалился дядюшка, красный от радости и задыхающийся от любви ко мне.
– А я к тебе, брат племянник. Погостить. Посмотреть, как они тут живут, эти самые наследники…
Он обнял меня, посмотрел внимательно через мое плечо на покрытый стол и – отшатнулся.
– Что вы, дядя?
Он прохрипел, нахмурив брови:
– Убийца!
– Кто убийца? – озабоченно спросил я. – Где убийца?
– Ты убийца! Что это такое? Это вот…
– Кусок ростбифа. Не желаете ли скушать?..
– Чтобы я ел тело убитого в муках животного?.. Чтобы я был соучастником и покровителем убийства?! Пусть лучше меня самого съедят!
– Вы что же, дядя… вегетарианец?
Он уселся на стул, кивнул головой и внушительно добавил:
– Надеюсь, и ты им будешь… Надеюсь.
Если бы этот человек приехал из Самары или какого-нибудь Борисоглебска – я бы не церемонился с ним. Но он был из Сибири.
– Конечно, дядя… Если вы находите это для меня необходимым, я с сегодняшнего дня перестаю быть, как вы справедливо выразились, убийцей! Действительно, это, в сущности, возмутительно: питаться через насилие, через боль… Впрочем, этот ростбиф я могу доесть, а?
– Нет! – энергично вскочил дядюшка, хватаясь за ростбиф. – Ты не должен больше ни куска есть. Нужно мужественно и сразу отказаться от этого ужаса!
– Дядя! Ведь животное это все равно убито, и его уже не воскресить. Если бы оно могло зашевелиться, ожить и поползти на зеленую травку – я бы, конечно, его не тронул… Но у него даже нет ног… Не думаю, чтобы этот бедняга мог что-либо чувствовать…
– Дело не в нем! Конечно, он (на глазах дяди показались две маленькие слезинки) ничего не чувствует… Его уже убили злые, бессердечные люди. Но ты – ты должен спать отныне с чистой совестью, с убеждением, что ты не участвовал в уничтожении Божьего творения.
До сих пор было наоборот: я обретал спокойный сон только по уничтожении одного или двух кусков Божьего творения. И наоборот, пустой желудок мстил мне жестокой длительной бессонницей.
Но так как от Сибири до меня расстояние было довольно внушительное, я закрыл руками лицо и с мучительной болью в голосе прошептал:
– И подумаешь, что я до сих пор был кровожадным истребителем, пособником убийц… Нет! Нет!! Отныне начинаю жить по-новому!
Дядя нежно поцеловал меня в голову, потрепал по плечу и сказал:
– Вот ты увидишь, какой прекрасный обед я закажу сейчас твоей кухарке. Через час все будет готово: мы пообедаем очаровательно!
III
На столе стояли вареные яйца, масло, маринованные грибы и хлеб.
– Мы, брат, чудесно пообедаем, – добродушно говорил дядя. – За первый сорт. Я голоден как волк.
Он взял яйцо и вооружился ложкой.
– Дядюшка! – изумленно вскричал я – Неужели вы будете есть это?!
– Да, мой друг. Ведь здесь я никого не убиваю…
– Ну нет! По-моему, это такое же убийство… Из этого яйца мог бы выйти чудесный цыпленок, а вы его уничтожаете!
Его глаза увлажнились слезами. Он внимательно взглянул на меня: мои глаза тоже были мокры.
Он вскочил и бросился в мои объятия.
– Прости меня. Ты прав… Ты гораздо лучше, чем я!
Мы прижали друг друга к сердцу и, растроганные, снова сели на свои места.
Дядя повертел в руках яйцо и задумчиво произнес:
– Хотя оно уже вареное… Цыпленок из него едва ли получится.
– Дядюшка! – укоризненно отвечал я. – Дело ведь не в нем, а в вас. В вашей чистой совести!
– Ты опять прав! Тысячу раз прав. Прости меня, старика!..
Кухарка внесла суп из цветной капусты.
– Дай я тебе налью, – любовно глядя на меня, сказал дядюшка.
Я печально покачал головой.
– Не надо мне этого супа.
– Что такое? – встревожился дядя. – Почему?
– Позвольте мне, дядя, рассказать вам маленькую историйку… На одном привольном, залитом светом горячего солнца огороде росла цветная капуста. Радостно тянулась она к ласковым лучам своей яркой зеленью… Любо ей было купаться в летнем тепле и неге!.. И думала она, что конца не будет ее светлой и привольной жизни… Но пришли злые огородники, вырвали ее из земли, сделали ей больно и потащили в большой равнодушный город. И попала несчастная в кипяток и только тогда, в невыносимых муках, поняла, как злы и бессердечны люди… Нет, дядя!.. Не буду я есть этой капусты.
Дядя с беспокойством взглянул на меня.
– Ты думаешь… Она что-нибудь чувствует?
– Чувствовала! – прошептал я со слезами на глазах. – Теперь уже не чувствует… Учеными ведь доказано, что всякое растение – живое существо, и если оно не умеет говорить, то это не значит, что ему не больно!.. О, как я раньше был жесток! Сколько огурцов убил я на своем веку…
Дядя тихо положил ложку и отодвинул суповую чашку.
– Мне стыдно перед тобой… Теперь только я вижу, как я был жалок со своим вегетарианством, которое было тем же замаскированным убийством… Ты прямолинейнее и, значит, лучше меня.
Мы сидели молча, растроганные, опустив головы в пустые тарелки.
– Но… – прошептал наконец дядя, задумчиво глядя на меня. – Чем же мы должны питаться?
– Молоком, – сказал я. – Это никому не делает больно. Хлеб делается из колосьев, и поэтому жестоко было бы уничтожать его. Вместо хлеба можно подбирать сухие опавшие листья, молоть их и изготовлять суррогат муки…
Дядя вздохнул.
– А я заказал кухарке на второе спаржу…
– Дядюшка! Позвольте мне рассказать вам историйку: на одном огороде росла спаржа… Радостно тянулась она к яркому…
– Знаю, – кивнул головой дядя. – Потом пришли злые огородники и сделали ей больно… – Он почесал затылок и сказал: – Ну что ж делать… Попьем молочка! Может, до сбора сухих листьев можно с кусочком хлеба… Он ведь мертвенький…
– Дядя! – сурово и непреклонно сказал я. – Будьте же мужественны! Ведь дело не в мертвеньком, как вы говорите, хлебе, а в вас! Дело в чистой совести!
IV
Он пил маленькими глотками молоко и, пораженный, смотрел на меня. А я говорил:
– Я вам беспредельно благодарен! Вы мне открыли новый мир!.. Теперь я буду всю жизнь ходить босиком.
– Босиком? Зачем, мой друг, босиком?
– Дядя! – укоризненно сказал я. – Вы, кажется, забываете, что башмаки делаются из кожи убитых животных… Не хочу я больше быть пособником и потребителем убийства!
– Ты мог бы, – сосредоточенно раздумывая, прошептал дядя, – делать башмаки из дерева… Как французские крестьяне.
– Дядюшка… Позвольте вам рассказать одну печальную историйку. В тихом дремучем лесу росло деревцо. Оно жадно тяну…
– Да, да, – кивнул головой дядя. – Потом его срубили злые лесники. Милый мой! Но что же тогда делать?! Вот у тебя сейчас деревянные полы…
Я тихо, задумчиво улыбнулся.
– Да, дядюшка! В будущий ваш приезд этого не будет… Я закажу стеклянные полы…
– По… чему стеклянные?
– Стеклу не больно. Оно – не растительный предмет… Стулья у меня будут железные, а постели из мелкой металлической сетки…
– А… матрац и… подушки?.. – робко смотря на меня, спросил дядя.
– Они хлопчатобумажные! Хлопок растет. Позвольте рассказать вам одну…
– Знаю, – печально махнул рукой дядя. – Хлопок рос, а пришли злые люди…
Он встал со стула. Вид у него был расстроенный, и глаза горели голодным блеском, так как он пил только молоко.
– Может быть, вы желали бы пройтись после обеда по саду? – спросил я. – Мне нужно кое-чем заняться, а вы погуляйте.
Он встал, робкий, голодный, и заторопился:
– Хорошо… не буду тебе мешать… Пойду погуляю…
– Только, – серьезно сказал я, – одна просьба: не ходите по траве… Она вам ничего не скажет, но ей больно… Она будет умирать под вашими ногами.
Я обнял его, прижал к груди и шепнул:
– Когда будете идти по дорожке – смотрите под ноги… У меня болит сердце, когда я подумаю, что вы можете раздавить какого-нибудь несчастного кузнечика, который…
– Хорошо, мой друг. У тебя ангельское сердце…
Дядя посмотрел на меня робко и подавленно, с чувством тайного почтения и страха. Втайне он, очевидно, и сам был не рад, что разбудил во мне такую чуткую, нежную душу.
Когда он ушел, я вынул из буфета хлеб, вино, кусок ростбифа и холодные котлеты.
Потом расположился у окна и, уничтожая эти припасы, любовался на прогуливавшегося дядюшку.
Он шагал по узким дорожкам, сгорбленный от голода, нагибаясь время от времени и внимательно осматривая землю под ногами… Один раз он машинально сорвал с дерева листик и поднес его к рту, но сейчас же вздрогнул, обернулся к моему окну и бросил этот листик на землю.
Прожил он у меня две недели – до самой своей смерти.
Мы ходили босиком, пили молоко и спали на голых железных кроватях.
Смерть его не особенно меня удивила.
Удивился я, только узнав, что хотя он и жил в Сибири, но имел все свойства самарского дядюшки: после его смерти я получил тощий засаленный пучок кредиток – так, тысячи три.