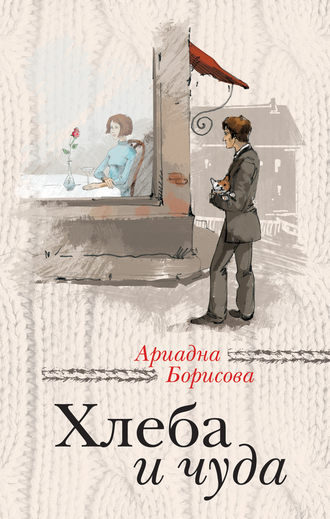
Ариадна Борисова
Хлеба и чуда (сборник)
Сашка присела рядом.
– Тятя, расскажи о войне.
– Что – война? – произнес отец с кривой улыбкой. – Неинтересная это штука – война.
– Но был же героизм…
– А как же, – кивнул он и вытер о культи вспотевшие ладони. – Страшный был героизм.
– Почему страшный?
Отец уставился на красно-серый пепел в открытой дверце печи, и набрякшее от попоек лицо его окаменело. Сашка уже думала – не ответит, а он заговорил. Медленно, трудно, будто слова выдавливались изнутри без всякого его желания.
– Сраженье было раз в украинском селе… Там один молодой солдат наш, пацан еще, отвоевался. Герой… Истинный герой… был. Кончился бой, и сидит он, помню, на бруствере, руки вперед вытянул – зовет… Маму зовет… Глазницы пустые… а глаза его, Санечка… глаза его, чисто бусины голубенькие… на жилках по щекам висят – взрывом вышибло…
Прикрыв лицо ладонью, отец дернул другой рукой рычажок тормоза и поехал к двери. Прихватил с лавки телогрейку, шапку, перебрался через порог, напустив в дом зимнего тумана… Ругая себя за праздные вопросы, Сашка хотела броситься за ним, и остановилась, потрясенная сдавленным окликом Марьи:
– Доченька!
В первый раз за всю свою двенадцатилетнюю жизнь услышала Сашка от матери это слово. Марья сидела на табурете с бледным, известковой белизны, лицом и простирала к Сашке руки, как тот ослепший солдатик.
– Доченька, – повторила мать, больно прижала Сашку к себе и разрыдалась.
Вскоре стало известно: Ванечка погиб в бою за польский город Калиш. Сашке о гибели брата сказал отец. Мать то ли сожгла письмо с известием, то ли так далеко спрятала, что больше бумагу не видели. Сашка, по крайней мере, не видела, как и шоколад с чудным нездешним запахом, в коричнево-алой обертке с иностранными буквами.
Дровяник не сотрясся от воя Марьи. Она, кажется, не поверила в смерть Ванечки и не плакала из суеверия – чтобы не накликать. Но взяла лучшую карточку сына и съездила в город заказать в фотоателье его портрет. Повесила потом над кроватью рядом с иконой Богородицы с маленьким Христом на руках и ярким рисунком в рамке, подаренным ей школьником Ванечкой, – синие цветы в небывалой красоты вазе.
В один из святочных дней Марья велела Сашке снести в проветренную после топки баню настольное трюмо. Отправилась туда к полночи, а любопытная Сашка уже ждала: легла на верхний полок и схоронилась под кучей ольховых веток. Марья прикатила кадушку, поставила ее на попа в углу и, взгромоздив трюмо, зажгла с двух сторон его створок белые свечи в медных подсвечниках. Сама села на низкую лавку и погасила коптилку, с которой пришла. Изумленная Сашка приподняла голову на локтях – острые глаза ее узрели в центральной части трюмо, поверх головы матери, уходящий вдаль коридор – высокий, с длинными черными стенами, но светлый, – весь в свечах, точно храмовый.
Заметно волнуясь, Марья кинула в прозрачный стакан что-то маленькое, блестящее. «Кольцо», – догадалась Сашка и вздрогнула от тревожно зазвеневшего голоса матери:
– Господи, прости мя, грешную, прости глупую… – Марья перекрестилась, кланяясь лицом кому-то невидимому в угол. – Иван Гурьич говорит, обшибка, видать, вышла с похоронной-то бумагой. Военные часто обшибаются. Живой, поди, Ванечка. Может, в плену был, а домой не пускают, и письмо написать нельзя. На пленных-то наши худо смотрят, не жалуют… и где теперь мой сыночек?..
Сашка оцепенела в своем тайнике, боясь пальцем шевельнуть. Тяжкая тишина сгустилась в бане, только сквозь клубящийся под потолком пар падали с прокопченных балок горячие капли. Через минуту напряженный слух стал улавливать непонятные шорохи, скрипы, мышиный писк; в висках застучало. Марья сидела неподвижно, вперив немигающие глаза в зеркальную бездну. Одна капля дзенькнула на днище кадушки перед стаканом.
– Где Ванечка? – всхлипнула мать.
И вдруг…
Забыв обо всем, ошеломленная Сашка протерла лицо ладонями: в сердцевине золотистого отражения смутным пятном проявился какой-то горб, темно-серый, как обтянутая дерюжной рубахой грудь лежащей женщины. Марья глухо вскрикнула и зажала рот рукой. Округлый горб сделался более отчетливым, проступил из глубины сияющего коридора, словно послушался чьего-то зова, двинулся наружу с потустороннего дна и, наконец, ясно обозначился холм… Не дерюжный. Земляной.
Замерцали свечи, трепеща огнями на неведомом ветру, из жерла каменки взвеялся жаркий пепел, и волосы Сашки поднялись дыбом от нечеловеческого рыка и рева. На пол и стены обрушился дикий грохот. Чудилось, банька, хлопая дверью, кривясь косым сиреневым окошком предбанника, заходила ходуном. В свете одной устоявшей свечи Марья, страшная, косматая, с разверстой в крике черной дырой рта на свирепом лице, колотила деревянными остатками трюмо о нижний полок, не замечая, что руки ее изрезаны и весь пол усыпан кровавыми зеркальными осколками.
Кто-то забарабанил в дверь снаружи. Медвежья тень матери метнулась в предбанник, и ветки ввером взлетели над Сашкой, – она выпрыгнула с полка, мать как раз пинком распахнула дверь, с щепой выдрав накинутый крючок… Салазки отца кувыркнулись с крыльца в сугроб. Выскочив из бани, Сашка понеслась по тропе, подгоняемая собственным визгом и жуткими воплями Марьи.
Дома на столе горела лампа, было тепло и как-то кощунственно уютно. Сашка сползла по стене, задыхаясь, посидела на корточках и снова вышла в сенцы. Луна светила ярко, в полную силу отраженного блеска, смотрела вместе с Сашкой на Марью, волокущую с задворок отца. Бешено елозя на салазках, он лупил ее по чему придется одним из крепежных ремней. Она тоже била его куда попало темными от крови руками, не делая попыток заслониться от ударов и голося монотонно, гулко, как в бочку:
– Мой сынок, о-о-о! Ванечка погиб… а ты-ы-и! Ты-ы… Заче-е-ем, за что, боже-е?!
– Дай подохнуть! – надрывно, со слезами кричал отец и обзывал мать такими гадкими словами, каких Сашка никогда от него не слышала. – Дай околеть спокойно! Ванька и мой сын, забыла? Или ты от Чичерина его родила?!
Покачиваясь, полоща воздух окровавленными ладонями, Марья внезапно расхохоталась с безумным подвывом.
– А-ха-ха-ха! Я! Я от Чичерина родила! Ха-ха-ха-ха! От скопца! Дивитеся, люди, баба в кои-то веки от бесснастного родила!
Хлестнув отца по щеке, она захлебнулась рыданием и с размаху уселась в сугроб.
– Безмозглая курица, я любил своего сына так же, как ты! – крикнул он, утирая с лица рукавом кровавую печать, и подал жене руку. – Вставай, замерзнешь… Вставай же! Господи, какого лешего я женился на этой дуре?!
Мать поднялась с его помощью, перехватила ремень и потянула отца к дому…
Иван Степанович с полным правом оплакивал сына почти месяц. Отметился в каждом дворе, дерзнул к председателю прокатиться, и тот не прогнал, поднес рюмку белой за помин.
К маю Марья тайком от мужа настояла в бане лагушок[4] браги со зверобоем. Утром девятого, в день рабочий, но с митингом, напекла капустных пирожков. Переоделась вечером в праздничный черный жакет, накинула черный платок и пошла на сельсоветскую площадь. Сашка ежилась, чувствуя неловкость из-за траура матери в принаряженной толпе, но ничего дурного не произошло, не одна Марья была в черном. Председатель прочел доклад, ему недолго хлопали, в нетерпении ожидая основной части мероприятия. Марью среди многих наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945», подарили ордер на одежду, и Сашка за свой труд удостоилась грамоты с ордером.
Дома, почуяв неладное, мать поспешила в баню. Навстречу ей с бидоном нацеженной браги ехал отец.
– Смыться собрался, – загородила тропинку Марья.
– А то, – отец задиристо вздернул к ней виновато-испуганное лицо. – Нонче мой день!
Резко выдернув дужку из его ладони, Марье удалось завладеть бидоном.
– Дура-баба! – заорал Иван Степанович и безуспешно попытался поймать ее за летящий подол юбки. В кухне мать безмолвно водрузила бидон на буфет и спокойно достала с полки миску с ароматными пирожками. Перевалив через порог, отец из вредности придвинул к буфету скамью, два табурета и лавочку.
Марья готовила на стол, с мстительной улыбкой наблюдая за потугами мужа. Не выдержала, съязвила:
– Ох и посмеюся же я, когда ты лететь со своей каланчи будешь!
Иван Степанович в сердцах сплюнул на пол:
– Я уйду от тебя сейчас!
– Уходи! – закричала Марья. – Ужо от ярыжника[5] ослобонюсь!
– Вот и ладно, – зловеще скривился он. – Но не думай, я судиться буду. Здесь мое все!
– Твое?.. Ага, Ванька Кондратьев, твое! – Марья пошла на него, уперев руки в бока. – А не чичеринское ли? Не скопцовское ли? Или поблазнилось мне, что ты полдня план сочинял, как у Ивана Гурьича добро-то ловчее к себе прибрать?!
Стараясь держаться прямо, отец крутанулся на колесах салазок и увидел прижавшуюся к стене Сашку. Пробормотал в сторону:
– Хоть бы не при дочери на отца клеветала, кобыла старая…
– Я – старая? – зашипела Марья над его плешивой макушкой. – До молодух тебе слинять неймется? Да только кому ты нужен-то, полчеловека!
Щеки и шея отца налились свекольной краснотой. Оттолкнув жену, он мощным рывком перекинул себя с салазками к буфету и, не успела она опомниться, уперся в него спиной. Истошный крик Марьи потонул в лязге и дребезге посуды, вывалившейся из распахнутых дверок. Бидон весело проплясал к краю и, оросив кухню терпким мутным дождем, загремел по столу.
– Скотина ты-ы! Бык ты-ы-и! – Марья вцепилась в остатки отцовских волос.
– Выйди, Санька, не смотри! – сорванным заячьим голосом, словно дурачась, заверещал отец и сцапал мать поперек живота.
Вылетев во двор в платье, Сашка поняла, что скоро озябнет. На улице было ветрено и совсем еще светло. Залезла на чердак и зарылась в невыделанные шкуры, собранные по деревне так и не сбывшимся сапожником.
Где-то кричал мужчина – то ли отец внизу, то ли ветром с дороги принесло:
– Нале-во! Шагом… арш!
Сашка завернулась, как могла, в жесткую волчью шкуру мехом к себе и прильнула к пыльному чердачному окну.
– Ать-два, ать-два! – По дороге, уже просохшей от луж и не пыльной, кое-как поднимая больные колени, маршировала в солдатской пилотке тетка Катерина. Дядя Кеша шагал позади, приставив к затылку жены дуло охотничьего ружья. В лучах позднего солнца ярко сверкали на гимнастерке боевые награды. Сашке хорошо было видно сверху раскрасневшееся, довольное лицо пьяного соседа.
– Кру-гом! – скомандовал он. – Лечь! Встать! Лечь! Встать! Вста-ать, кому сказал!
Тетка Катерина становилась на карачки, тщетно силясь подняться, и раздавалась новая команда. После нескольких честных попыток исполнить приказ Катерина схватилась за поясницу и осталась лежать лицом вбок.
– Стреляй, вражина… – донесся ее осипший от плача голос.
«Учения» завершились. Поддерживая жену за пояс, дядя Кеша потащил ее, обезножевшую, домой.
Сашка прислушалась к звукам внизу. Подозрительная тишина заставила ее спуститься с крыши.
Родители мирно беседовали за столом, закусывая брагу пирожками. Весь дом провонял тошнотворным духом кислого сусла и перебродившего со зверобоем зерна. Сноровистая Марья умудрилась за короткое время прибрать разбитые тарелки, подтереть полы и сгонять с бидоном в баню. Сашку не удосужилась кликнуть, хотя наверняка видела, что дочь убежала в одном платье. Ощущая свою ненужность, Сашка тихо проскользнула в свою каморку и, не раздеваясь, легла в постель.
Почему-то вспомнилось, как Марья припрятывала для Ванечки конфеты, подвигала ему за столом вкусные кусочки. Покупала сыну городские рубашки, забывая о том, что обмалились Сашкины платья, пошитые из старья. «Ванечки не стало, кого теперь матери любить-то? – страдала Сашка. – Я ей лишняя, тятя – калека…» Плакала, жалея всех, особенно мать, и, противореча себе, мечтала, как вырастет взрослая и родит девочку матери назло… Тогда и дернулась слева в груди, болезненно затрепетала тонкая ниточка, – не оборвалась, слава богу, но будто бы попросила не теребить, не надсаживать сердце обидой.
В передней отец снова гневно возвысил голос:
– Дай, говорю!
– Нет, – громко отрезала Марья.
Сашка спрыгнула с кровати, подобралась в носках к занавеске и чуть приоткрыла с угла.
Марья, прямее некуда, сидела на табурете, отец слез зачем-то с салазок и, обхватив ее колени, пожаловался:
– Мне эта бражка как морю капля.
Выпростав ноги из кольца мужниных рук, мать встала к нему спиной у окна.
– Негде водки сейчас купить.
– Касьянчиха самогон продает, – встрепенулся он. – Недорого… Мать, ну не будь жмотиной, дай. Получу пособие, верну, ей-богу. Мать, ма-ать…
Марья гневно обернулась.
– Не смей называть меня так!
Отец откинулся к ножке стола.
– И впрямь, чего это я… Кому ты мать? Сашка… А где Сашка?!
– Спит давно, – презрительно усмехнулась Марья. – Залил зенки-то, да и проворонил, как к себе шмыгнула. А ее трудно не заметить, здоровая стала девка.
«Надо же, видела меня», – удивилась Сашка. Отец бухнулся в салазки и, подкатившись к Марье, запрокинул к ней умоляющее лицо.
– Мы с тобой помянули сына. Это правильно. Но пойми, я – солдат. Я защищал Родину. Дом свой защищал, тебя, дочь. Не один я, другие тоже, и те, кто погиб, защищали своих и землю нашу. Имею я право сегодня выпить за помин погибших товарищей?
Марья отступала от отца, пятясь, выдирая подол из его цепких пальцев.
– Нет, ты мне скажи, жена: имею или не имею?!
Остервенело выдернув из-под кофты, из лифчика бумажную купюру, мать выкинула ее в середину комнаты:
– На, бери, напивайся!
Отец подскочил на культях, взмахнув рукой, но словить деньги на лету не удалось, и рухнул на пол. Вывернувшиеся салазки швырнуло от толчка в порог и перевернуло. Искоса глянув на них, отец пополз к деньгам, бормоча:
– Прости, Марья, я виноват перед тобой… Всю жизнь тебе испоганил… Если можешь, прости… Зачем ты вышла за меня? Господи, лучше бы меня убили!
До вожделенной бумажки осталось руку протянуть, а он вдруг забился лбом об пол, с надсаженным стоном выталкивая из горла судорожные обрывки слов:
– По… че… не… у… би… ли… Гос… поди!
Мать упала рядом с ним на колени, прижала голову отца к своему животу и заплакала, замотала распустившейся седой косицей:
– Нет, Ваня, нет, нет, нет, нет, нет…
Сашке не спалось и ночью. Повертевшись на постели, она вышла, попила воды из ковша и, проходя мимо комнаты родителей, замедлила шаги.
– Дай, – просил отец.
– Нет.
– Ну дай…
Голоса были тихие. Сашка сначала подумала, что отец снова требует денег на выпивку. Но вдруг поняла…
– Не дам, – игриво сказала мать. И захихикала.
Прижав ладони к жарко полыхнувшим щекам, Сашка бросилась в каморку. «Боже, неужто они до сих пор… Такие старые… Как… отец же безногий!» Она нырнула в постель, сжала уши ладонями, чтобы не слышать шепота и скрипа в соседней комнате, а с мыслями ничего не могла поделать – они лезли к ней, стыдные, глупые, горячие, заставляя стискивать зубы, жмурить глаза, обливаться под подушкой слезами и потом.
…На следующий год, когда отменили карточную систему, а в стране опять случился неурожай, и в магазинах было шаром покати, но начали продавать водку, Иван Степанович отправился за ней зимой пьяный и поморозил одну из культей. Начался огневец, везти в городскую больницу стало поздно…
Дядя Кеша, славный плотник, выстругал соседу гроб в полный рост, с учетом несуществующих ног. На отца натянули купленные Марьей у спекулянтов брюки, набили их сеном и надели начищенные ваксой кирзовые сапоги. Сашка удивилась, каким, оказывается, он был высоким. Совсем не помнила его с ногами. Всю память о нем, довоенном, перебили салазки на колесах и мощные руки с каменными, несмываемо серыми запятками на ладонях.
Марья не плакала, но глаза ее запали и совсем потеряли свой яростный синий цвет. Сидя после поминок у печки, она, не курящая, вдруг задымила папиросой из оставшейся отцовской пачки «Беломорканал» и, с глубоким отвращением глянув на Сашку, проговорила:
– Как же ты на него похожа.
Сашка оскорбилась. Не потому, что действительно смахивала на отца внешне, а из-за того, что нравом – негибким, упрямым, самой себе обременительным в скрытном своем одиночестве, постылым и неизменчивым нравом – она походила на мать.
Временами Сашке стал сниться приземистый, широкоплечий отцовский силуэт, катившийся в салазках по песчаной дорожке встречь алому, как знамя, рассвету. А на дорожке больше не было дрожащих на ветру березовых теней в медовых пятнах. Марья срубила красивые березы в палисаднике, – сказала, что застят солнце, и под окнами вольно разрослись ядовито-зеленая, узорно вырезанная крапива и ушастые лопухи.
Сашка думала о странной связи живого и мертвого, что без конца перетекает одно в другое. Умерли Ванечка, отец и березы, и все умрут. Она, Сашка, тоже когда-нибудь исчезнет, а жизнь будет продолжаться, будет идти вперед к всеобъемлющему коммунизму и счастью. Появятся новые люди, не знающие войны… Все изменится, уже меняется, – на пасеку прилетели молодые пчелы, приручились и начали давать мед. Мать увлеклась пасечной работой, рассказывала о пчелах, как раньше Ванечка, радовалась: жимолость щедро зацвела, даст хороший взяток…
Иван Гурьевич редко выходил из своей избенки – болел очень. Руки-ноги целы, а живот, оказывается, был разворочен осколком снаряда. Марья ходила лечить Ивана Гурьевича, звала в большой дом, – принадлежавший ему по справедливости, по наследству от старых скопцов. Но Чичерин не захотел, так и умер в избенке. Марья горевала, что в конце жизни Иван Гурьевич перестал верить в бога. И в настоящего бога, и в своего неправильного, скопческого… А сама Марья каждый вечер стояла на коленях у кровати перед иконой Богородицы с Христом, портретом Ванечки и синими цветами в рамке.
Сашка знала, о чем молит мать Богородицу и Бога. Марья просила, пока она еще в силе, чтобы дочь поскорее вышла замуж и родила сына, а ей – внука.
По прозвищу Трансформатор
В деревне построили новую свиноферму, и Сашка пошла туда свинаркой. Дурного хавроньина запаха в чистом здании почти не ощущалось. Чушек мыли из шлангов, не то что прежде, когда от смрада щипало глаза и жижу выгребали лопатой. Подача пищи была автоматизированной, кормили животных неделю густо, неделю жиденько на обрате для переслойки сала мясцом. Работа Сашке нравилась, досаждали только здешние парни, избалованные молодайками. Однажды привезший обрат шофер ущипнул ее за ягодицу и, получив от души, весь день ездил с задранным кровоточащим носом. Этот шофер и придумал Сашке прозвище – Трансформатор, имея в виду устрашающий знак «Не влезай, убьет!». Таблички с таким предупреждением висели на опорах ЛЭП и дверях трансформаторных будок в райцентре, который недавно электрифицировался. Ну и пусть Трансформатор, думала Сашка, зато отстали.
Суровое поведение окутывало Сашку, как кокон зреющую бабочку, поэтому она была возмущена, когда председатель определил к ней на постой мужчину – городского агитатора. Общество «Знание» по просьбе совхозного парторга отправило его на лето в село для повышения политического и научного уровня сельчан. Вслух Сашка, конечно, негодования не высказывала. Единолично занимая большой родительский дом при нехватке жилых площадей, она понимала председательскую справедливость. А лектор при своем хрупком здоровье не мог ежедневно мотаться сюда по тряской дороге из города. Спасибо, что согласился провести разъяснительную работу в крестьянских массах, надеясь поправить слабый организм на свежих молочных продуктах. Очкастый шибздик – любой из парней походя щелчком перешибет, был он Сашке по брови, имя же носил, будто в насмешку, крупное, броское – Трудомир Николаевич Воскобойников.
В клубе открылся агитпункт. Трудомир Николаевич проповедовал против церкви, и активные школьники демонстрировали химические опыты, убеждая стариков в отсутствии ангелов на небесах. По словам агитатора, наука шагнула так широко – куда там богу, ученые изобрели даже негниющие стеклянные нитки – «стекловолокно» называются – и аппараты механического доения. Это новшество с помощью гидравлики помогало извлекать молоко одновременно из десятка и более коров. Слушатели смотрели агитатору в рот, как зачарованные. Казалось, в реку бы гурьбой двинулись на его голос, лишь бы не переставал пропагандировать за технический прогресс. В Сашкиной голове диковинным образом перемешались ангелы, домовые, атеистическая химия, гидравлика и Страшный суд, но от материного обычая креститься, садясь за стол, она таки избавилась.
Особенно рьяно Трудомир Николаевич ораторствовал перед кино. Парторг, раньше выступавший сам, помалкивал, и на хмуром его лице читалось чистосердечное раскаяние. Председатель тоже лишился возможности всласть побранить народ за срыв плана по госпоставкам. С изумлением и беззвучным гневом слушал председатель доклад о хлебном изобилии в стране: хлеб стал бесплатным в общественных столовых – это как? Деревня, значит, вкалывает, чтоб город задарма жрал?! В иных местах крестьяне все еще пашут ручными плугами, серпами жнут, а тут пришел дрыгалка и врет о фантастических агрогородах… Но начинала тарахтеть кинопередвижка, на простыне расцветали джунгли, в них запрыгивал Тарзан, и досада на шустрого болтуна забывалась.
После киносеанса Сашка шла с Трудомиром Николаевичем домой и краснела. Сзади доносился глумливый шепот: «Сашка, Сашка-Трансфоратор! Не влезай, убьет!» Видела, как трепещут занавески в окнах. Агитатор продолжал витийствовать перед сузившейся аудиторией, и в голосе чувствовались проникновенные нотки. Дома он вешал соломенную шляпу на косульи рога, мыл тщательно пальцы. Берег себя – мало ли какую заразу хранили в клубе вещи, к которым прикасался. За ужином спрашивал о прочитанной литературе, говорил о семенах разумного, доброго, вечного.
Сашка жила на свете двадцать два года с половиной, а серьезных книг читала всего две, и то в школе. Про неверную жену, которая мучилась-мучилась да и бросилась под поезд, и про парня, убившего старуху и тоже изрядно промучившегося. Ну, это не считая, разумеется, школьных сихов и рассказов-статей в разных журналах. Застыдившись, решила съездить в районный поселок, сходить в библиотеку и краеведческий музей для самообразования.
В библиотеке книг оказалось так много, что растерялась, какую взять. Подумала, может, неместным не дают, постояла немножко и ушла. По стенам музея висели живопись и графика местных художников. Цветные картины глянулись Сашке больше. Только вот женщины на двух рисунках были голые, как в бане, а ведь в музей мужчины ходят и даже школьники…
В магазине повезло попасть в очередь за голубым крепдешином в синюю крапинку. Удалось незаметно вынуть из лифчика кошелек, недавно бригада получила деньги сверх трудодней. В другом магазине Сашка купила легкие сандалеты из серой кожи, – не в кирзовых же сапогах щеголять при крепдешиновой обнове. После получился дивной красоты сарафан, светлое было Сашке к лицу.
На обратном пути ехала в кузове грузовика-попутки с молодой семьей. На коленях у мужчины сидела махонькая девочка, завернутая поверх плащика в байковое коричневое одеяло – будто сахарная пирамидка в вощеной бумаге. Женщина играла с ребенком в ладушки. Когда грузовик встряхивало на колдобинах, все трое вскрикивали: «Ой!» и смеялись.
Сашке не нравились краснощекие деревенские младенцы с толстыми ручками-ножками в колбасных перетяжках, это же дитя было сущий стебелек: от пушистых волос шло сияние, ресницы посверкивали, как золотые остьица ячменя. И что-то странное в ней взыграло. Захотелось вдруг заиметь такое же теплое, нежное, которое целуешь, вдыхая родной запах, а оно щекотно лепечет в ухо и тонкими ручонками обнимает шею. Но чтобы непременно девочка была, не пацаненок. Сашка любила бы дочку так же, как мать брата Ванечку, погибшего на войне. Назло материнской нелюбви к ней, Сашке.
Захваченная расчетом улучшения разлапистой крестьянской породы, она ни на ком из парней не остановилась. Неширок оказался выбор: либо кряжистые увальни с мясистыми лицами, либо каланчи долговязые – Сашка сама была не из маленьких. Да чего от себя таиться! Ведь сразу пригляделась к постояльцу. Приметила под очками большие умные глаза цвета песчаного дна в речной тени, нос не картошкой кверху – пряменький, аккуратный, руки изящные. Холеные нерабочие руки с узкими ногтями…
Через неделю Сашка поняла: куда направится агитатор, туда бежит-торопится ее взгляд. Смотрела, слушала – любовалась. Слова слетали с губ Трудомира Николаевича округлыми стружками, тема отшлифовывалась обстоятельно, гладко, как Буратино… Вот только зря агитатор облачился в бордовый джемпер, опасаясь вечерней прохлады. Быкам же что бордовый, что рудый – все равно красная тряпка. Тем более Вахлаку, который свирепел даже при виде пионерского галстука. Быка держали на ферме в стойле, раз в день выводили гулять, а тут кто-то вольно выпустил. Сашка вовремя оглянулась на топот. Не растерялась, схватила агитатора под мышки и закинула на городьбу, а оттуда он сам выше на березу забрался. Покричал, пока Сашка на рогах у бугая моталась, лупя его в шею ногами, – помогите, помогите! Вахлак умудрился за юбку ее подцепить, когда она тоже на городьбу лезла. Чуть не умерла от стыда – юбка задралась, ляжки в трусах наголе! Случилось это, к счастью, близко от клуба, парни примчались мигом, навалились гуртом на бычину и сняли Сашку с рогов. Она – в кусты, спасители – в хохот, агитатор схоронился в ветках. Увели взмыкивающего Вахлака, и лишь тогда слез с березы. Подал руку, влажную от испуга: «Спасибо вам… Не поранились?..»
Не поранилась. Ссадины с синяками на спине остались, – Сашке с детства не привыкать, она такие мелочи ранами не считала. Больше думала, что опозорилась с трусами перед Трудомиром Николаевичем. Хорошо хоть не порвались у него на глазах. Спасибо нетеплому вечеру и материной юбке из крепкой диагонали, и что решила надеть ее со старым свитером. В сарафане-то плоше бы пришлось. Однако и тут не страшилась – не впервой лягаться с порозами[6]. Огромные хряки, быков не меньше, бывало, сбегали с летника, растелешатся на тракте и машин ничуть не боятся. Начнешь подымать хворостиной – норовят сбить с ног и кусаются не меньше собак. А Вахлак известный задира, но никого еще насмерть не проткнул…
В этот вечер растроганный Трудомир Николаевич необыкновенно разоткровенничался от благодарности. Рассказал о «закрытом» письме в обком со штампом «секретно» и о докладе Никиты Сергеевича Хрущева на XX съезде КПСС. Высокие партийные люди проголосовали за одобрение письма. Из-за него, из-за секретного послания ЦК, даже экзамен по истории в школах отменили.
Агитатор сам не понимал, зачем говорит это малосознательной девушке, но старался подбирать слова проще, у него был богатый опыт бесед с невежественными крестьянами. А Сашка сидела с сияющими глазами, с глуповатой улыбкой и почти ничего не слышала. Любовалась Трудомиром Николаевичем, какой же он красивый и как много знает.
– Человек взял на себя все руководство, – вещал он между тем. – Лично управлял всеми сферами советской деятельности, даже языкознанием. Мы были как крепостные в его частном владении. Теперь люди будто проснулись от тяжкого сна. С сельчан сняты налоги за каждого цыпленка, жизнь понемногу налаживается. Сталин…
– Сталин? – встрепенулась Сашка.
– Так я же о нем вам минут десять толкую, – удивился он с легким укором.
– При Сталине хорошо было, – сказала она. – Цены в магазине быстро падали.
Вспомнила, что и водка год от году дешевела. Отец-инвалид, приученный на фронте к «наркомовскому» спирту, от той подешевевшей водки и помер.
– Хороший был Сталин, но и Никита Сергеевич хороший. Паспорта нам скоро обещали выписать.
Агитатор был разочарован. Верно говорят, что какая бы тоталитарная власть над народом ни довлела, все она ему хороша. Нехороша, получается, только тем, кто сам хочет стать властью, эти и баламутят.
Глубоко вздохнув-выдохнув, он прогнал из головы крамольную дурь. Доужинали в молчании.
Храбрая, конечно, девушка, размышлял агитатор, – будто женщина из знаменитого некрасовского стиха, но дремучая. На редкость темная. И с чего вдруг на него нашла исповедальная проруха?..
А Сашка в это время думала, как его обольстить, да так ничего и не придумала. Никогда же охмурением мужиков не занималась. Трудомир Николаевич – мужчина культурный, женатый и по натуре интеллигент, не бабник. Не особо на нее смотрел и обращался все на «вы» с вежливыми «извините-спасибо-пожалуйста». Поэтому Сашка просто пришла к нему ночью и легла рядом в тоненькой батистовой сорочке. Вот тут-то с него вся культура и слетела, как осенью листья.
Собственные действия пошатнули Сашкино лучшее о себе мнение, но поступить иначе она уже не могла. Во-первых, поздно, во‑вторых, надо. Агитатор же, забыв обо всем, совершал свою мужскую работу добросовестно и со знанием дела. Сашка одновременно ругала и хвалила свое нахальство. От испачканной сорочки и самого акта ей стало стыдно, противно до тошноты. Побаливало в укромном месте. Тем не менее, досадуя на неопрятность человеческой природы, мылась Сашка под утро осторожно, чтобы ненароком не смыть агитаторское семя.
Больше она в агитпункт не ходила, и Трудомир Николаевич явственно охладел к ораторскому искусству. В кино перестал оставаться, спешил домой. Ночи близости казались Сашке священными, и попривыкла она к нелекторскому усердию постояльца. В каждой артерии и малой венке, каждой каплей крови ощущала льющиеся в нее семена. Ждала, когда закрепится в лоне одно, освоится, пустит корни, как ячменное зернышко, и взрастет дивным плодом – крохотной девочкой с нежным запахом и вспархивающими золотыми ресницами. И в одну прекрасную ночь зернышко закрепилось. Сашка сразу это поняла по впервые испытанной щемящей дрожи, унесшей ее тело высоко-высоко на небесных качелях. «Счастье», – подумала тогда Сашка.
К отъезду квартиранта она чисто-начисто отскоблила все наросшие к нему чувства. А он как раз созрел до объяснения.
Агитатор с сожалением покидал покладистую хозяйку. Здоровая, юная, она словно вернула ему часть собственной молодости. Готовила много и вкусно. Но супружеский долг, пулей засевший в сердце, требовал возвращения к варенным всмятку яйцам и протертым супам. Не мог Трудомир Николаевич морально идти против того, за что агитировал людей. Не мог нарушить великую советскую идею семейных ячеек, прочными сотами связывающих государство в единое, нерушимое целое. Сашка вкусно пахла подсолнечными семечками и свежим березовым веником, но законная супруга все же была фундаментом агитаторского существования. Она руководила крупным товароведческим ведомством, имела какой-то тайный побочный доход, – в детали Трудомир Николаевич из партийной брезгливости не вдавался и уважал в жене делового человека. В общем, возможности у нее были большие. Жена презирала других за то, что они видят яблоки по штуке в год в детском подарке, и Трудомир Николаевич слегка это презрение разделял, когда ел редкие фрукты чаще, чем остальные мясо. Да и мясо… тонко прокрученные котлетки на пару, полезные телячьи отбивные… Самое же главное – центральное отопление, водопровод и санузел. А здесь что? Примитивная изба с русской печкой. Деревня от слова «дыра». Дыревня…







