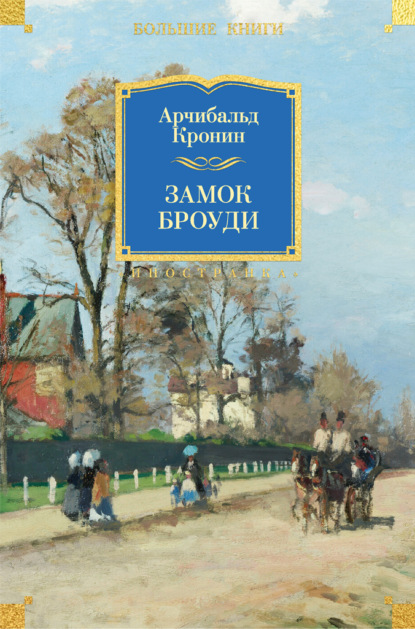Полная версия:
Арчибальд Джозеф Кронин Дневник доктора Финлея
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Арчибальд Кронин
Дневник доктора Финлея
Приключения черного саквояжа
1. Радикальное средство доктора Финлея
Когда Финлей чувствовал, что ему следует размяться после долгой ежедневной тряски в двуколке, он частенько отправлялся по вечерам пешком на Леа-Брэ.
В ту пору, еще до того, как преуспевающие горожане начали усеивать вершину холма своими картонными виллами, это была любимая прогулка доктора – по пологому склону от Ливенфорда и далее с крутым подъемом на запад, к заливу Ферт.
С вершины открывался великолепный вид на эстуарий. Тихим летним вечером, когда солнце опускалось за Ардфилланские холмы, этот широкий водный простор внизу, с едва заметным дымком парохода на горизонте, вызывал душевное волнение.
Но для Финлея все это было угроблено Сэмом Форрестом с его креслом на колесах.
Красный, в складках жира, откинувшийся на подушки, словно лорд, Сэм появлялся в сопровождении бедняги Питера Ленни, который, тяжело дыша, толкал перед собой кресло с Сэмом.
Затем наверху, пока Питер отдувался, вытирая пот со лба, Сэм величественно отпускал маленькую металлическую рукоятку руля, вытаскивал из кармана плитку прессованного жевательного табака, с хрустом откусывал, разевая пасть, как огромный бык, и торжественно озирал не открывающийся перед ним вид, а крутой спуск с холма, как бы говоря: «Вот, друзья мои! Вот где случился тот кошмар».
Все это произошло уже пять лет назад.
Тогда Питер Ленни был бойким молодым человеком двадцати семи лет от роду, очень скромным и услужливым, – он владел несколькими торговыми лавками на Колледж-стрит, которые с робкой дерзостью называл «Торговым центром Ленни».
В романах у малорослых мужчин, как правило, бывают большие властные жены, но в действительности это далеко не так. И Ретта Ленни была такой же маленькой, субтильной и непритязательной, как и ее муж.
А потому их часто «кидали» в бизнесе. Но, несмотря ни на что, дела их шли довольно успешно, перед ними открывалось прекрасное будущее, и они с двумя детьми с комфортом жили в доме на две отдельные квартиры на Барлоан-вей, в достойном квартале, где стремились поселиться торговцы Ливенфорда.
Однако в Питере Ленни, скромном маленьком продавце, прыгающем за прилавком, таилась никем не подозреваемая жажда приключений. Бывали моменты, когда, лежа воскресным утром в постели с Реттой, он, хмуро уставившись в потолок, вдруг заявлял:
– Индия! – (Или это мог быть Китай.) – Вот что мы должны когда-нибудь посетить!
И Ретта смотрела на него с восхищением.
Возможно, именно эти романтические замашки и привели к покупке велосипеда-тандема, поскольку иначе Питер никогда бы не поступил столь опрометчиво, пусть в тот момент повальное увлечение «велосипедом для двоих» и достигло своего апогея.
Однако приобретенный Питером тандем, это сверкающее средство передвижения, это коварное устройство с накачанными воздухом шинами, стоившее кругленькую сумму денег, будучи еще не распакованным, вынудило Ретту недоверчиво ахнуть:
– О Питер!
– Будем кататься, – сказал он, стараясь, чтобы это прозвучало как можно беспечнее. – Посмотрим окрестности. Запросто!
Однако все оказалось не так-то просто. Например, возникла заминка с шароварами для Ретты: она была маленькой застенчивой женщиной, и Питеру потребовалась целая неделя серьезных споров и уговоров, чтобы убедить жену выйти на люди в модной, но явно неподобающей одежке.
Сам Питер был в широкой куртке, довольно импозантно расстегнутой, так что, сидя на велике и крутя педали, он выглядел настоящим профи. И вот, одевшись как подобает, Питер и Ретта отправились осваивать свою покупку.
Они тренировались тайком, с наступлением сумерек, в тихих переулках вокруг Барлоан-вей, и многажды презабавно падали.
О! Сколько удовольствий было во всем этом! Раскрасневшаяся и хихикающая Ретта выглядела чрезвычайно привлекательно в своих шароварах, и Питеру нравилось поднимать ее, грациозно распластавшуюся на пыльной мостовой.
Супруги снова начали ухаживать друг за другом. И когда наконец, вопреки всем законам тяготения, они, ни разу не потеряв равновесие, объехали по кругу Барлоан-толл, то сошлись во мнении, что никогда еще их жизнь не была такой захватывающей.
Питер, многозначительно демонстрируя недавно купленную карту окрестных дорог, решил, что в воскресенье они совершат свой первый настоящий велопробег.
В то воскресенье был чудный рассвет, небо чистое, дороги сухие. И пара отправилась в путь. Питер неустрашимо припал к переднему рулю, Ретта позади мужественно крутила педали. Чувствуя на себе восхищенные и даже – о да – завистливые взгляды, они прокатились по Хай-стрит.
Динь-динь, динь-динь – тренькал их звонок. Какие мгновения! Динь-динь, динь-динь! Повернули налево – держись, Ретта, держись – через мост; затем вгрызлись в подъем на Ноксхилл и далее нырнули за гребень Леа-Брэ.
Они спускались по склону – все быстрее и быстрее. Навстречу свистел ветер. Никогда еще они не летели столь стремительно.
Это было великолепно, это было потрясающе, но – боже! – это было ужасно быстро! Гораздо, гораздо быстрее, чем они рассчитывали.
От избытка эмоций Ретта побледнела.
– Тормози, Питер, тормози! – закричала она.
Он нервно нажал на тормоза, тандем тряхануло, и Ретта чуть не перелетела через голову мужа. Тут он окончательно растерялся, отпустил тормоза и попытался выпростать ноги из педальных держателей.
Велосипедное чудище, вильнув вбок, закусило удила и взбесившейся ракетой понеслось вниз по склону холма.
А у подножия стоял Сэм Форрест.
Сэм намеревался послоняться по берегу Леа – это действительно было одним из двух его занятий. Другое занятие состояло в том, чтобы с особым усердием отираться у стойки бара «У слесаря».
Вообще-то, Сэм так редко покидал паб, что ему никогда не грозила реальная опасность свалиться на ровном месте.
Дело в том, что Сэм был бездельником, большим, толстым, ни к чему не пригодным пьянчугой, с женой, занятой стиркой, и целой оравой ничем не занятых крикливых детей.
Сэм изумленно и в то же время ошарашенно наблюдал за приближающимся транспортным средством. Оно скатывалось на такой скорости, что он на секунду подумал, стоит ли верить собственным глазам. Минувший субботний вечер оказался для него не из легких, и туман в мозгах Сэма все еще не развеялся.
Вниз-вниз-вниз – рассекал воздух тандем.
Питер, с застывшим от ужаса лицом, сделал последнюю попытку управлять двухседельным монстром, ударился колесом в бордюр, перелетел через дорогу и врезался прямо в Сэма.
Точнее – в его зад, поскольку Сэм уже успел изменить позицию, дабы ретироваться. Раздался отчаянный рев жертвы, сопровождаемый треском и грохотом тандема, части которого разлетелись в разные стороны, после чего наступила долгая тишина.
Затем Ретта и Питер выбрались из канавы. Они с недоверием посмотрели друг на друга, как бы говоря: «Мы живы? Этого не может быть».
Ошеломленный Питер слабо улыбнулся Ретте, и та, чувствуя, что вот-вот упадет в обморок, слабо улыбнулась в ответ. Но тут они вспомнили о Сэме!
А как же Сэм? Увы и ах! Бедный Сэм лежал в дорожной пыли и стонал. Они бросились к нему.
– Ты ранен? – воскликнул Питер.
– Я мертв, – простонал Сэм. – Вы прикончили меня, проклятые убийцы.
Ужасная тишина, прерываемая лишь стонами Сэма. Питера колотило от ужаса, и все же он попытался поднять упавшего, который был вдвое тяжелее его.
– Не трогай меня! Не трогай! – завопил Сэм. – Ты меня на куски разорвешь!
Ретта побледнела еще больше.
– Вставай, Сэм, вставай! – взмолилась она.
Он был ей хорошо знаком – неделю назад она отказала ему в кредите.
Но Сэм не хотел вставать. Малейшая попытка поднять его вызывала у Сэма жуткие конвульсии, и казалось, что в его больших мясистых ногах опоры теперь не больше, чем в водянистом желе.
Время шло. Ретта и Питер были в полном смятении; они уже представляли себе изуродованный труп Сэма и самих себя, несчастных, на скамье подсудимых, под суровым взглядом судьи, надевающим черную шапочку.
Однако тут как раз и подоспела помощь в лице Рафферти и его легкого грузовичка.
Рафферти, продавец масла и яиц, для которого воскресенье – после ранней мессы – было ничем не хуже любого другого дня, ехал из Ардфиллана, где собирал яйца. С его помощью Сэм был поднят, положен среди яиц и отвезен в свой дом в Веннеле.
В процессе его транспортировки разбилось несколько яиц, но Питер и Ретта были готовы оплатить ущерб, на чем они страстно настаивали. О да, они заплатят – лишь бы Сэма благополучно довезти, все прочее – ерунда.
Наконец под пронзительные причитания жены Сэм оказался дома в постели, окруженный своим любопытствующим потомством.
– Доктор, – стенала жена, – нам нужен доктор!
– Да-да, – пробормотал Питер. – Я позову доктора!
Как ему сразу в голову не пришло? Конечно, тут нужен доктор! Питер слетел с грязных ступенек и как ветер помчался за ближайшим доктором.
В то время доктор Снодди еще не был женат на богатой миссис Иннес и не переехал в полезный для здоровья Ноксхилл. Его еще ничем не примечательная недвижимость находилась на Хай-стрит, расположенной рядом с Веннелом. Этот Снодди и пришел к Сэму.
Сэм лежал на спине с открытым ртом и закрытыми глазами. Ни один мученик не страдал больше, чем Сэм, пока врач его осматривал.
Его стоны и в самом деле собрали толпу вокруг дома, полагавшую, что это он снова пользует свою жену, однако, когда истина открылась, сочувствие к Сэму было огромным.
Доктор был впечатлен, хотя и озадачен состоянием Сэма: никаких переломов костей, никаких повреждений внутренних органов, но что-то, несмотря на это, было не так, о чем свидетельствовали столь явные страдания пациента.
Наконец Снодди, маленький, заурядный, напыщенный человечек, преисполненный огромным чувством собственного достоинства, глубокомысленно и зловеще изрек:
– Это позвоночник!
С глухим стоном Сэм повторил эти слова. И Питера до мозга костей пронзил ужас.
– Понимаете, – прошептал он, – это мы виноваты, мы несем полную ответственность. У него должно быть все необходимое. Он ни в чем не должен нуждаться! Ни в чем!
С этого и началось. Больному было необходимо питание, хорошее, полноценное. Питание было ему обеспечено. А также антидепрессант. Питер заметил, что бренди подходило для этого как нельзя лучше. А также полноценная постель – Ретта сама поставляла ему сменные простыни и наволочки. Полотенца, нижнее белье, ночные рубашки, кастрюли, джем, чай, сахар – все это плавно перетекало в дом больного. Потом – немного табаку, чтобы успокоить измученные нервы. И еще немного денег, поскольку миссис Форрест, привязанная к лежащему Сэму, не могла, как раньше, зарабатывать стиркой.
«Отнеси это Сэму» – стало главной фразой дня.
Конечно же, и Снодди заходил регулярно как часы. И наконец настал день, когда, отведя Питера в сторону, он произнес роковое слово «паралич». Сэм будет жить, но он никогда больше не встанет на ноги.
– Никогда? – запнулся Питер. – Я не понимаю!
Снодди издал свой напыщенный смешок:
– Просто понаблюдайте, как бедняга пытается ходить, и все станет понятно.
Для Питера и Ретты это был сокрушительный удар. Они проговорили до поздней ночи, снова и снова возвращаясь к этой теме. Но выхода не было.
Ретта поплакала, и Питер тоже был близок к тому, но им следовало взять это на себя; это их вина – они и должны оплатить счет, а Сэм, бедняга Сэм… конечно, ему было намного хуже, чем им.
Купили кресло-каталку – Питера пробило потом, когда он увидел цену, – и Сэм в инвалидном кресле занял свое место в ливенфордском обществе.
Старший, четырнадцатилетний сын Сэма вполне мог катать его по прямой, и направление к торговому центру Сэм предпочитал всем другим. Он сидел возле магазина, греясь на солнышке и посылая за табаком, пирогом или своим любимым сушеным черносливом. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы отказать ему в кредите. Кредит Сэма был неограничен, к тому же он получал от Питера еженедельное пособие.
Недолгая сенсация по поводу кресла на колесах быстро сошла на нет, и Ливенфорд забыл о Сэме. А когда Питер и Ретта покинули уютный маленький домик на Барлоан-вей и переехали в комнаты над магазином, едва ли кто-нибудь это заметил, как и то, что их маленькая дочка бросила уроки музыки, а сын внезапно покинул частную школу, чтобы зарабатывать в конторе Гиллеспи.
Нахмуренные брови и озабоченный взгляд Ретты, а также седина в волосах Питера мало кого интересовали и едва ли вызывали сочувствие.
Как говорил об этом лично Сэм, многозначительно покачивая головой: «Зато они при своих ногах!»
Именно эту фразу и произнес Сэм в разговоре с Финлеем в тот роковой вечер первого июля.
Вечер был яркий – красивый закат и великолепный вид на залив. Финлей стоял на вершине холма, стараясь обрести покой в этом зрелище.
Его мысли занимал только что законченный прием, день выдался суетным, и настроение доктора Финлея в целом было скверным.
Наконец его стала наполнять целительная тишина окружающего пространства – умиротворенный, он закурил трубку. А затем из-за гребня холма в кресле-каталке появился Сэм.
Финлей тихо выругался. История Сэма и Питера была ему давно известна, и вид этого большого, заплывшего жиром увальня, паразитом впившегося в тощего и голодного Ленни, не на шутку разозлил его.
Доктор наблюдал за их приближением, раздраженно отмечая про себя, как непросто приходится Питеру, и, когда они достигли вершины, ядовито высказался по поводу проблем подъема инертной массы на такую высоту.
– Ему неча жаловаться, – вздохнул Сэм. – Зато он при своих ногах.
И тут Финлей инстинктивно взглянул на ноги Сэма, комфортно устроившиеся на кресле-каталке. Как ни странно, это были на удивление крепкие ноги. Толстые, как и весь Сэм, бугрящиеся под синими саржевыми брюками.
Странно, подумал Финлей, что нет ни атрофии, ни истощения этих бесполезных конечностей. Очень странно! С растущим подозрением он долго не спускал глаз с ног Сэма, а затем с ужасающей проницательностью вперил взгляд в лицо ничего не подозревающего человека, развалившегося в кресле-каталке. «Боже мой! – осенило Финлея. – Неужели? Неужели все эти годы…»
И вдруг, стоя рядом с креслом на краю холма и повинуясь какому-то дьявольскому порыву, он поднял ногу и подошвой ботинка сильно толкнул кресло.
Без всякой преамбулы кресло ринулось вниз.
Питер, словно окаменев от повторения ужасной истории, стоял с разинутым ртом, провожая взглядом инвалидное кресло, а затем нервно вскрикнул.
Сэм с бычьим ревом пытался справиться с креслом. Но у кресла не было тормозов. На бешеной скорости кресло пронеслось вниз по дороге, врезалось в живую изгородь, перевернулось, и Сэм кувырнулся из него в заросли крапивы. На две секунды он исчез из виду в зеленом море жгучей крапивы, а затем чудесным образом выбрался оттуда.
Ругаясь на чем свет стоит, он вскочил на ноги и побежал к Финлею.
– Какого черта! – закричал он, размахивая кулаками. – Какого черта ты это сделал?
– Хотел проверить, не разучился ли ты ходить! – крикнул в ответ Финлей и первым ударил Сэма.
Питер и Ретта возвратились в дом на Барлоан-вей. Кресло-каталка было продано, и Сэм вернулся к своему прежнему занятию – отираться у стойки бара «У слесаря». Но каждый раз, когда Финлей проезжает мимо, Сэм шлет ему проклятия и плюет вслед.
2. Пантомима
Как правило, Ливенфорд обходился без театральных зрелищ.
К ресторанам и аттракционам на ежегодной ярмарке обычно добавлялись сеансы кинопередвижки, где в атмосфере, пропитанной запахом апельсиновых корок и керосиновым чадом, можно было за два пенса посмотреть «Девушку, которая свернула не туда» или «Убийство в красном амбаре».
Полной же противоположностью этому считались, конечно, любительские концерты. В зимний сезон по четвергам небольшая кучка утонченных леди и джентльменов развлекала столь же утонченную публику пением и декламацией.
«А теперь выступит мистер Арчибальд Смолл…»
После чего наливающийся краской мистер Арчибальд Смолл в скрипучих сапогах и вечернем костюме с чужого плеча выходил вперед и пел: «Тора! поговори сно-ова со мно-ой».
Между этими полюсами театральный ручеек в Ливенфорде пересыхал, и в городке опять воцарялся суровый дух ковенантеров[1].
Так что представьте себе, какой поднялся переполох, когда в начале декабря стало известно, что в Бург-Холл на неделю, начиная с хогманая, кануна Нового года, прибудет пантомима.
Пантомима! Ну конечно для детей! И все же даже в самом черством сердце она пробудила интерес и вызвала трепет у влюбчивой молодежи Бурга.
Даже Догги[2] Линдсей, сын провоста[3], не скрывал своего интереса к пантомиме – снисходительного интереса, естественно; довольно специфического интереса, ибо Догги был представителем местного света, а именно его центром. Этот небольшой светский кружок и диктовал городу моду на крикливую одежду и вызывающие манеры.
Догги был бледнолицым юнцом, со склонностью к беспричинному смеху, прыщам и к невообразимому панибратству, выражавшемуся в дурной привычке хлопать своих знакомых по спине и, похохатывая, громогласно называть каждого стариной.
«Тяпнем по бренди, старина?» – таким было обычное приветствие Догги, когда он со знанием дела стоял в зале «Слона и замка». Догги носил яркие рубашки, блестящие запонки, а зимой – пестрое пальто с огромными карманами и воротником, неизменно подпиравшим его оттопыренные уши.
У Догги были поражающие воображение настоящие курительные трубки всевозможных изгибов и тяжелая трость, которой он стучал, шествуя по дороге. Он считался энциклопедическим знатоком женщин, а некогда держал бульдога.
На самом деле в Догги не было ни грамма порока. Он страдал от богача-отца, любящей, все ему прощающей матери и от своего худосочного телосложения. Добавьте к этому тщеславное желание провинциала, чтобы местные считали его повесой из повес, настоящим исчадием ада, – и вот вам портрет Догги в худшем его варианте.
Прибыла рождественская пантомима, труппа номер пять из Манчестера, которая забрела в эти северные края в надежде охмурить местных жителей «Золушкой». Но местные жители оказались менее податливыми, чем ожидалось.
В Пейсли на гастролирующую труппу Сэмюэлса хлынул дождь не букетов, а помидоров, а в Гриноке – настоящий град яиц. Так что ко времени прибытия в Ливенфорд моральный дух лицедеев оставлял желать лучшего.
У комика был слегка потускневший вид, хор путал слова, а мистер Сэмюэлс втайне придумывал срочное дело, которое могло бы оправдать его внезапный вызов в Манчестер.
Через два дня после премьеры в Бург-Холле Финлей встретился на Хай-стрит с Догги Линдсеем.
– Смотрите-ка, старина! – воскликнул Догги.
Он в основном окучивал Финлея как сведущего в оккультных тайнах тела. У незатейливого Догги либидо остро нуждалось в иллюстрированной книге по анатомии.
– Смотрите-ка, старина! Видел пантомиму?
– Нет! – сказал Финлей. – Что, хорошо?
– Хорошо! – Догги запрокинул голову и загоготал. – Боже мой, это чудовищно! Гадость, ужас, дрянь! Но все же, старина Финлей, это писк! – Он снова загоготал и, схватив Финлея за руку, спросил: – Ты не видел Дандини?
– Нет-нет! Говорю же, меня и близко там не было.
– Финлей, ты должен увидеть Дандини! – возмутился Догги, и глаза его увлажнились. – Богом прошу, ты должен увидеть Дандини! Именно ее, Финлей. Последнее слово тетки-травести. Старая извозчичья кляча в трико. Сам поймешь, о чем я. Избежала живодерни – та еще мамочка. Лет полста на сегодня, танцует, как куча кирпичей, и голос, как из бочки. О черт! У меня истерика от одной мысли о ней. – Он замолчал, совершенно опустошенный собственным смехом, но, взяв себя в руки, вытер глаза и объявил: – Ты должен увидеть ее, старина. Клянусь, что должен! Такое удовольствие нельзя пропустить. У меня есть места в первом ряду на каждое вечернее представление. Пошли со мной сегодня вечером. Питер Уир тоже придет и Джексон из «Рекламодателя»!
Финлей смотрел на Догги, испытывая сложные чувства: иногда этот юноша ему очень нравился, иногда вызывал чуть ли не ненависть.
С языка Финлея едва не сорвался отказ, но по причине какого-то смутного интереса – назовите это любопытством, если угодно, – доктор счел за лучшее согласиться и довольно сухо сказал:
– Могу заглянуть, если у меня будет время. В любом случае оставь мне место.
Затем, отказавшись от экспансивного предложения Догги насчет «тяпнем по бренди», он зашагал прочь, чтобы продолжить свои визиты к пациентам.
В тот вечер Финлей действительно заглянул в Бург-Холл, предварительно объяснив Камерону свои мотивы.
Камерон кивнул, насмешливо посмотрев на него:
– Сходи, если хочешь, а я закончу прием. Малышу Линдсею пойдет на пользу, если ты не дашь ему вляпаться в какую-нибудь неприятность. Он безмозглый псих, но, чесслово, есть в нем что-то хорошее.
Представление едва началось, когда Финлей скользнул на свое место, а публика, состоявшая в основном из молодых подмастерьев с верфи, уже принялась освистывать действо на сцене.
И правда, это было жалкое зрелище, а нервный мандраж артистов делал его просто чудовищным. И был, конечно, Дандини – двойник Дандини, в исполнении травести, Дандини как зеркало моды и эхо двора, франтоватый спутник принца!
Финлей заглянул в программку. Роль мальчика исполняла Летти ле Брюн. Ну и имечко! Ну и женщина! Это было высокое, растерянное, худющее создание – призрак в трико, явно набитом ватой, со впалой грудью и изможденным лицом, на скулах пятна румян…
Исполнительница главной роли машинально передвигала ноги и в прострации танцевала. От нее даже не требовалось петь. И действительно, когда хор подхватил припев, она едва пошевелила губами. Финлей мог бы поклясться, что она вообще не пела. Но ее глаза завораживали – большие голубые глаза, когда-то, видимо, прекрасные, теперь были полны страдания и презрения.
Каждый раз в ответ на очередную порцию насмешек эти трагические глаза широко открывались, а лицо застывало в стоической гримасе. Чем дальше шло представление, тем напряженнее становилась атмосфера: шиканье, свист и, наконец, издевательские выкрики. Догги был в экстазе – сжимал руку Финлея и чуть ли не валился со своего кресла.
– Ну разве она не умора? Разве не отпад? Разве было что-то смешнее со времен моей бабушенции?
Как будто она была какой-то новой театральной звездой, а он – импресарио, который ее открыл.
Но Финлей не улыбнулся. В глубине души он испытывал боль, как при виде чужого унижения.
Когда под гром нарочитых аплодисментов занавес опустился, Финлей чуть не вскрикнул от облегчения. Но для Догги еще ничего не закончилось – нет, до конца было еще далеко.
– Мы обойдем вокруг, – осклабившись и подмигнув, заявил он, – заглянем за кулисы.
Похоже, он припас нечто более тонкое – какое-то более изощренное издевательство, нежели грубый акт яйцеметания.
Финлей попытался было возразить, но они уже двинулись – Догги, Джексон и молодой Уир. Так что он последовал за ними по продуваемым сквозняками каменным коридорам Бург-Холла и поднялся по скрипучим ступеням в артистическую уборную Летти ле Брюн.
На самом деле это была общая раздевалка, с условными перегородками, рваными обоями и запотевшими стенами, однако почти вся труппа уже покинула помещение, наверняка испытывая облегчение оттого, что можно вернуться к себе.
Но Летти была там – сидела за захламленным столиком и медленно застегивала пуговицы на платье.
Вблизи она выглядела еще уродливее. Она смыла с лица жирную краску, но на скулах все еще виднелись два ярких пятна, а под большими голубыми глазами залегли темные круги.
Она молча изучала гостей.
– Ну, мальчики, – не без достоинства произнесла она, – что вам угодно?
Догги с нарочитой галантностью шагнул вперед – о, он был большим выдумщиком, этот Догги Линдсей!
– Мисс ле Брюн, – чуть ли не жеманно сказал он, – мы пришли, чтобы сделать вам комплимент и спросить, не окажете ли вы нам честь, отужинав вместе с нами?
Она молчала, а стоявший позади остальных юный Уир фыркнул, пытаясь подавить разбиравший его смех.
– Сегодня не могу, мальчики. Я слишком устала.
– О нет, мисс ле Брюн, – возразил Догги, – всего лишь маленький ужин! Как он может утомить такую актрису с таким опытом?
Актриса почти невозмутимо окинула их всех печальным взглядом.
Она понимает, что он обманывает ее, с болью подумал Финлей, и принимает это как королева.
– Завтра вечером я бы могла с вами поужинать, если хотите.
Догги радостно улыбнулся.
– Отлично! Отлично! – воскликнул он и назвал время и место встречи.