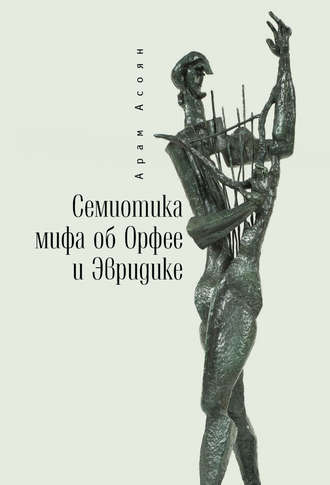
Арам Асоян
Семиотика мифа об Орфее и Эвридике
Посвящается Елене Александровне и памяти Пэми
Глава первая
…античный миф все еще не только определяет материал, но и самые формы нашей творческой мысли.
И. Анненский
Критерий здесь не точность, а глубина (…). Это область открытий, откровений, предузнаний, сообщений…
М. Бахтин
Философские мифы Платона показывают, как старая истина и новое понимание могут быть соединены воедино.
Г.-Г. Гадамер
Мифы, говорил Саллюстий, повествуют о том, «чего никогда не было, но всегда есть»[1]. Миф – мудрость, выраженная языком символов, и уже поэтому исключает какую-либо однозначную трактовку. Он, как оракул в Дельфах, не изъясняет, не указывает, а знаменует.
Одно из знамений мифа об Орфее и Эвридике связано с космогонией, ибо архетипическим ядром мифа всегда оказывается некое космогоническое событие. «Космогония, – писал М. Элиаде, – является образцовой моделью всякого созидания»[2]. Хтоническая мифология греков подтверждает справедливость этого замечания, она начинается с космогонии, где происхождение богов и космоса связано с появлением четырех первостихий: Хаоса, Геи, Эроса и Тартара. Все они имеют прямое отношение к топике мифа об Орфее и Эвридике. Но еще важнее для понимания этого мифа, его онтологики – мотив инцеста в происхождении мира.
Согласно «Теогонии» Гесиода, Мать-Земля рождает из самой себя Небо. От инцестуозного брака Урана и Геи рождаются титаны и боги. Подобный брак прослеживается и на позднейшей ступени развития греческой мифологии: Зевс становится мужем своей сестры Геры. Это приводит к онтологической нестабильности, но борьба Зевса с титанами заканчивается образованием антихтонического олимпийского порядка. Рождение Афины из головы Зевса символизирует окончательное отделение небесного начала от хтонического. В результате, космогонический процесс воспринимается как эволюция нарастающей дехтонизации. В итоге эволюции хтоническое начало нейтрализуется, изолируется и, наконец, заключается в Тартар как антиструктурное и деструктивное. Оно отделяется от верховного божества олимпийской религии, трактуется как темное и опасное, при этом маркируется как женское, поскольку олимпийский пантеон ярко выраженного патрифокального характера.
В свете такого космогонического процесса миф об Орфее и Эвридике символизирует попытку прервать этот процесс, иными словами, задержать дехтонизацию. Ради ретардации Орфей и спускается в Аид. При этом на хтоническую природу Эвридики, – в данном случае, благоприобретенную, – указывает змеиный укус, ибо мифологический змей связан с «нижним миром», с хаосом, противополагающим себя космическому порядку[3]. Сексуальное преследование Эвридики, когда она и была ужалена змеей, также коннотируется с хтонизмом. Об этом свидетельствует имя преследователя – Аристей. Он манифестировал «широко распространенное и по отдельным местностям разноокрашенное олицетворение плодоносящей силы подземного (как это явствует из эвфемистического имени) Пра-Диониса»[4]. Будучи ипостасью Аида, Аристей пытался овладеть супругой Орфея. М. Детьен на основе ассоциаций, которые вызывали у древних народов пчелы (ассоциаций сексуальной чистоты и невинности), отметил связь между виновностью Аристея в преследовании Эвридики и потерю им своих пчел[5]. В результате можно сделать вывод, что возлюбленная Орфея погибла в «медовый месяц».
Таким образом, случись возвращение Эвридики, это означало бы деструктуризацию космоса. Но в период утверждения олимпийского миропорядка попытка Орфея обречена на неудачу. Гея, которая своими чудовищными порождениями, – Горгонами, Тифоном, титанами, – сопротивлялась олимпийскому муженачалию и стала Матерью-Смертью, уже не может вступить в очередной инцестуозный брак с Ураном, а это означает, что инцестуозные отношения, подобные тем, которые ранее были присущи Земле и Небу, невозможны между Орфеем, чье имя по одной из версий означает «исцеляющий светом»[6], и Эвридикой, ставшей хтонической, то есть присвоенной Матерью-Смертью… – и это несмотря на всю силу Эроса.
В русле космогонической драмы миф об Орфее и Эвридике приобретает еще один смысл. Обычно акцентируют внимание на самоотверженности Орфея, не побоявшегося спуститься в Аид. Но если вспомнить, что Медуза была некогда красавицей, а в крылатое чудовище, со змеями вместо волос, она обращена через хтонизацию[7], или перемещение из мира живых в мир мертвых, то запрет Орфею оборачиваться предстанет как желание Аида предупредить гибельный для поэта поворот, ибо увидеть мертвое лицо Эвридики[8] – то же самое, что встретить взгляд Горгоны-Медузы[9]; ср.: «Усопших образ тем страшней, Чем в жизни был милей для нас…» – Ф. Тютчев). Возможно, нечто подобное имел в виду «последний писатель античности» Боэций, когда, вспоминая в трактате «Утешение философией» об Орфее, наставлял:
Страстно хотите, чтоб разум
К свету вас вывел, но будет
Мраком погублен, кто взглянет
В бездны его, и утратит
Высшее счастье навеки[10].
Следовательно, исчезновение Эвридики могло быть вызвано ее стремлением спасти Орфея[11]. Недаром она соотносится с Вечно-Женственным в природе, а природа (Земля) амбивалентна: она и спасительна, и чревата неотвратимой смертью. Иначе говоря, в Эвридике угадывается не только пассивное, страдательное, но и активное начало. Так, в «Повести о Платоне» П. Акройда, известного писателя современной Англии, приводится незамысловатое соображение, что Эвридика нарочно окликнула Орфея, чтобы он обернулся и поглядел на нее, ибо она состарилась, и ей не верилось, что он сможет любить ее[12]. Несоизмеримо сложнее природа инициативного начала в лирической героине М. Цветаевой, в стихотворении «Эвридика – Орфею» (1923).
Но смысл цветаевских стихов определяется не столько мифологическим планом, сколько психологическими особенностями личности Цветаевой и ее экзистенциальным самоопределением, самосознанием поэта, в котором интенции духа сильнее женской страсти. В результате возникает мотив Отказа:
Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер[13]
В 1926 г. Цветаева писала Б. Пастернаку: «Я бы Орфею сумела внушить: не оглядывайся! Оборот Орфея – дело рук Эвридики. («Рук» – через весь коридор Аида!) Оборот Орфея – либо слепость ее любви, невладение ею (скорей! скорей!) либо… приказ обернуться и потерять. Все, что в тебе еще любила последняя память, тень тела, какой-то мысок сердца, еще не тронутый ядом бессмертия.
С бессмертья змеиным укусом
Кончается женская страсть»[14].
Эти стихи Цветаевой – о себе, как поэте, с его предпочтением «безмерности в мире мер», с предпочтением духовного бессмертия – смертному, «душевному». Для Цветаевой – Эвридики призыв Орфея – очарование, свойственное чувственно-земному миру. Но Эвридика, временно обольстившись очарованием, остается с неизменной сущностью, если это даже сама смерть. И. Бродский в эссе «Девяносто лет спустя» заметил: «Орфея и Эвридику, по-видимому, притягивают противоположно направленные силы: его – к жизни, ее – к смерти. То есть на него претендует конечное, на нее – бесконечное»[15]. В приверженности Цветаевой-Эвридики к абсолютам и бесконечному – истоки ее «невстречи» с Орфеями, Э.-М. Рильке и Пастернаком. Одному из них она писала: «Через все миры, через все страны, по концам всех дорог Вечные двое, которые никогда не могут встретиться»[16]. Для Цветаевой пути любви – «топография духа», а не «география встреч».
На приоритет в ее психике духовного, «мужского» обратил внимание А. Кушнер, откликнувшись на слова Цветаевой, адресованные в 1926 г. Пастернаку:
О да, она могла б внушить Орфею
В тревоге не оглядываться… С ней,
Германию любившей и Вандею
Не страшен был бы путь в стране теней.
Писавшая в Москву об этой силе
Своей и твердом шаге, – не лгала.
Как в юности стихи ее любили
Мы, как потом любовь изнемогла
Под тяжестью взросленья, пониманья,
Отталкиванья от таких страстей
Избыточных… Сильней очарованья
В поэзии нас ждали и нежней,
Таинственней и вкрадчивей… Мужчины
Извилистее в речи стиховой,
Морские им доступнее пучины,
Их слух тесней братается с листвой.
Душа, хотел сказать я и запнулся,
Их женственна, не ведая о том.
Поэтому Орфей и оглянулся,
При всем своем уме, забыв о нем[17].
Но вернемся к мифу. Эссе Бродского «Девяносто лет спустя» посвящено стихотворению Рильке «Орфей. Эвридика. Гермес» (1904). В этом стихотворении прообразом Эвридики стала муза и подруга поэта Лу Андреас-Саломе. Она встретила Рильке, когда ему исполнилось двадцать лет. Их роман возник сразу и продолжался четыре года. Трагическое чувство поэта к Лу зашифровано во многих его стихах. В стихотворении «Орфей. Эвридика. Гермес», ставшее криптограммой их драматического разрыва, Рильке писал:
Даже сейчас она уже была не та светловолосая женщина,
чей образ когда-то отзывался в стихах поэта,
уже не аромат и остров широкого ложа,
уже не собственность идущего впереди.
Она уже была распущена, как длинные волосы,
и раздана на все стороны, как пролившийся дождь,
и растрачена, как изобильные запасы.
Она уже стала корнем.
И когда внезапно бог ее остановил и,
страдальчески воскликнув, произнес слова:
«Он обернулся!» —
Она ничего не поняла и тихо спросила: «Кто?»[18]
Бродский, размышляя над стихами, задается вопросом, кто предопределяет трагическую судьбу влюбленных. Он полагает, что древние знали ответ и наверняка сказали бы: «Хронос». Это суждение кажется нам бесспорным, но почему именно Хронос виноват в том, что попытка Орфея спасти Эвридику закончилась неудачей? Такая задача отсылает нас к древнегреческим представлениям о времени. Естественно, самым древним, ибо Орфей, согласно преданию, родился за одиннадцать поколений до Троянской войны и прожил девять колен.
Архаические представления о времени связаны в истории греческой культуры с именами Гомера и Гесиода. Существует легенда о поэтическом соперничестве великих аэдов. Знаменательно, что победу в этом состязании приписывают Гесиоду, хотя традиция полагает, что Гомеру нет равных. Причина симпатий к Гесиоду одна: по сравнению с Гомером, он оказался более чувствителен к идее времени[19]. Гесиод первый из эллинов внес момент поступательности и стадиальности в представление о цикличности бытия. Более того, в «Теогонии» космогония выглядит как «прогрессирующий ряд периодических разрешений от бремени женщины-матери. Сначала это Гея-Земля, восходящая к древнейшему образу Великой Матери богов, олицетворяющему вегетативно-созидательную мощь природы, затем дублирующие и дочерние персонажи Геи: Ночь, Тефия, Метис, океанида Стикс и другие женские хтонические божества. Все они привлекаются для иллюстрации органического становления космоса»[20]. «Теогония» Гесиода призвана выявить генезисно-динамический характер бытия.
В мире Гомера подобная динамика отсутствует. Здесь царит регулярный циклический ритм; в «Илиаде» он описывается стихами:
Сходны судьбой поколенья людей с поколеньями листьев:
Листья – одни по земле рассеиваются ветром, другие
Зеленью снова леса одевают с пришедшей весною.
(V1, 146–149, пер. В. Вересаева).
В круговороте природы, в циклическом временном ритме, провоцирующем идею «вечного возвращения», прошедшее и будущее оказываются тождественны настоящему. Миф о «вечном возвращении», свойственный гомеровской картине мира, служит «инструментом уничтожения времени»[21]. В результате мир Гомера изначально исключает хронологию, этот мир ПРЕБЫВАЕТ, а не СТАНОВИТСЯ. Для него актуальна не ХРОНОЛОГИЯ, а ТОПОЛОГИЯ. Здесь царит принципиально аисторическое бытие.
Но какое отношение это имеет к мифу об Орфее и Эвридике? Дело в том, что идея «вечного возвращения» влечет за собой представление о» золотом веке» как прерогативе минувшего; он всегда мыслится позади. Мифу о «вечном возвращении» противополагается идея линеарного развития, идея прогресса, при этом «золотой век» толкуется как атрибут будущего. Орфей – человек гомеровского мира, он – лирник, как Аполлон, и через него связан с небесной религией олимпийцев, которая впервые в своем целостном виде дана в «Илиаде» Гомера. Причина трагедии Орфея – поворот головы назад, а семиотически – в прошлое. Оборачивание – важный симптом. Ритуал оборотничества связан с тотемизмом, религией архаического коллектива. Вместе с тем, оборачивание – это еще и вспоминание о «золотом веке», который позади. Вот почему в «нетерпении сердца» Орфей оборачивается назад, но пожинает горе. Трагический исход предприятия Орфея, опять же семиотически, означает, что идея «вечного возвращения», а с ней и представление о «золотом веке» как прерогативе минувшего уже изжили себя. Иными словами, идея СТАНОВЛЕНИЯ всего сущего потеснила миф о «вечном возвращении». Гомеровскую картину мира сменила картина мира по Гесиоду, более молодая, а главное – иная.
Миф «вечного возвращения» не мыслит конечного момента бытия. В идеале он не знает смерти. Мир линеарного развития впервые осознает ее величие. Вот почему запрет оборачиваться исходит от Гадеса, бога мертвых. Для каждого Гадес, Аид – эмблема будущего; недаром его место на Олимпе, где ничего не становится, а только пребывает, оспаривается.
С идеей «вечного возвращения», которая в одном из орфических гимнов Кроносу выражена в словах «Ты все расточаешь дотла и вновь возвращаешь»[22], связана вера орфиков в метемпсихоз, в круговорот рождений. Пребывание в царстве Персефоны понималось ими как время очищения от грехов земной жизни; для большинства людей обитель Аида являлась своего рода Чистилищем. Тот же, кто провел земную жизнь, уважая волю богов и обычаи предков, тот и в царстве Персефоны обретает блаженство, «пока голос необходимости не призовет его обратно на землю для новых испытаний»[23]. В этом плане в «Фиваиде» Стация есть интересный эпизод. Плутон, рассказывая об Орфее, спускающемся в Аид, замечает, что при звуках его лиры Парки ЗАНОВО начали плести нить жизни Эвридики в надежде на ее возвращение к солнцу:
… видел я сам сей позор, как под звуки чарующей песни
слезы текли Эвменид и Сестры урок повторили.
Так же и я… Но лучше блюсти закон беспощадный[24].
«Закон беспощадный» – не что иное, как необратимость смерти, и уже современник орфиков поэт Алкей не верил в метемпсихоз, вот почему полагал, что «Орфей насиловал судьбу», когда убеждал «людей, рожденных на свет, смерти бежать»[25]. Ссылка Плутона на «закон» и неприятие Алкеем поступка Орфея приоткрывают еще одну завесу над семиотикой мифа: фиаско Орфея может рассматриваться как преодоление в этом мифе идеи метемпсихоза[26] и родового сознания, ибо именно род не знает, по существу, смерти. Человек, чья судьба не отделена от родовой жизни, как бы еще не стал индивидуальностью и не обладает личностным самосознанием, а значит и не ведает о той роковой бездне, которая маячит на горизонте индивидуального существования, когда личность сама себе является единственной субстанцией. Соотнесенность неудачи Орфея с изживанием в греческой культуре родового менталитета подтверждается уже тем, что случай нарушения запрета фигурирует только в позднейших версиях мифа об Орфее и Эвридике[27]. Как крушение идеи «вечного возвращения» и насилие Орфея над судьбой миф об Эвридике и ее возлюбленном был воспринят Вал. Брюсовым. Его стихотворение «Орфей и Эвридика» (1904) написано в форме диалога, и уже в первой реплике героя звучит намек на мифологическую доктрину «вечного возврата»:
Орфей: Слышу, слышу шаг твой нежный,
Шаг твой слышу за собой.
Мы идем тропой мятежной,
К жизни мертвенной стопой[28].
Обычное течение бытия – от жизни к смерти. Орфей надеется на реализацию иного направления, от смерти к жизни. Эта надежда напитана сокровенными интенциями и самого Брюсова, в годы декадентского эгоцентризма склонного к некрофильским соблазнам:
Я бы умер с тайной радостью.
В час, когда взойдет луна.
Овевает странной сладостью
Тень таинственного сна[29].
Впрочем, в подобном некрофильстве скрывалось романтическое убеждение, что жало смерти придает небывалую остроту сущностным переживаниям, вот почему муссировалась идея – «К жизни мертвенной стопой». Но этот путь заказан для Эвридики. Когда Орфей призывает ее: «Верь мне! верь мне! у порога Встретишь ты, как я, весну! Я, заклявший лирой – бога, Песней жизнь в тебя вдохну!», она выдыхает ему:
Ах, что значат все напевы
Знавшим тайну тишины!
Что весна, – кто видел севы
Асфоделевой страны![30]
Лира Орфея может зачаровать самого Гадеса, ибо смерть и бессмертие не мыслились в изоляции, – «Смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают»[31], – звучащая лира может открыть врата Аида живому поэту, но она не способна вернуть Эвридику на землю, ее смерть необратима.
Как феномен греческого мира, необратимость смерти утверждается в V веке до н. э., то есть во времена возникновения и расцвета классической трагедии. Она предстает средоточием эллинской культуры и знаменует перелом в человеческом самопознании. В этом жанре человеческое, точнее, героическое самосознание открывает свою трагическую природу и уже не может отождествиться ни с материнским (хтоническим), ни с отцовским (олимпийским) началом. Сверхчеловеческие силы сталкиваются в сознании героя, приводя его в собственное сознание, в себя[32], так рождается в противовес родовому личностное сознание, которое начинает мыслить время как «отца всех вещей». Идея времени и «открытие сознания» (А. Ахутин) оказываются атрибутами трагедии, которая, как считал Ф. Ницше, возникает из духа музыки, из дионисийского музыкального оргиазма, когда с человеком «внятно говорит сокровеннейшая бездна вещей»[33]. Этот трагический патос нуждался в строе, интеллектуально-оформляющем, аполлоническом начале. Так трагедия совместила в себе «мир подземный, с его животворящими силами и таинствами, и мир надземный, с его зиждительными началами закона и строя»[34]. В единстве двух миров, в единстве аполлонического и дионисического, заключена природа трагического, или катартического, эффекта как следствия приобщения героя к безднам бытия и, наконец, освобождения, благодаря аполлоническому началу, от смущающих душу переживаний.
Взаимосвязь исторической исчерпанности идеи «вечного возвращения», что нашло семиотическое отражение в мифе об Орфее и Эфридике, с «открытием сознания» в греческой трагедии предполагает рассматривать «поражение» Орфея как предсказание о необходимом появлении этого жанра в эллинской культуре. Но если в трагедии Дионис и Аполлон, как два художественных инстинкта, выступают в неразрывном единстве и, по сути дела, являются формой становления трагедии[35], то в мифе аполлоническое и дионисическое, «надземное и подземное», сознательное и бессознательное оказываются объективированными в Орфее и Эвридике, более того, – и это представляется в семиотическом отношении важнейшим, – катастрофически разделенными.
С другой стороны, крупнейший знаток античности Вяч. Иванов считал, что Орфей был для эллинов «пророком обоих (Диониса и Аполлона. – А. А.), и больший пророка: их ипостась на земле, двуликий, таинственный воплотитель обоих. Лирник, как Феб, и устроитель ритма, он пел в ночи строй звучащих сфер и вызывал их движением солнца, сам ночное Солнце, как Дионис, и страстотерпец, как он. Мусагет мистический, – говорил Иванов, – есть Орфей, солнце темных недр, логос глубинного, внутренне-опытного знания»[36]. Вящей убедительности этого мнения служит предание, что после смерти Орфея его голова оказалась в святилище Диониса, а лира – в храме Аполлона[37]. «Двуликость», о которой писал Иванов, актуализирует представление о женско-мужской природе Орфея, ибо Дионис – это бог чувств, «женское» в человеке; Аполлон – интеллектуальное, «мужское» начало. В связи с этим интересен североамериканский миф, о котором рассказывает М. Элиаде. Человеку, подобно Орфею потерявшему жену, удается спуститься в Ад и найти ее там. Повелитель Ада разрешает взять совершившему катабазис жену с собой, но при условии, если он сможет провести ночь без сна. Человек пытается выполнить предписание, но перед рассветом неожиданно засыпает. Испытание повторяется, однако снова заканчивается неудачей, и испытуемый вынужден вернуться на землю один.







