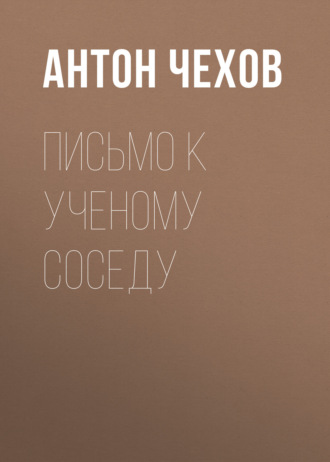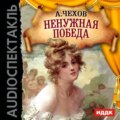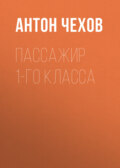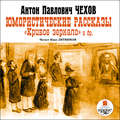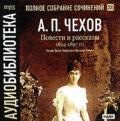Письмо к ученому соседу – Антон Чехов
«Дорогой Соседушка.
Максим… (забыл как по батюшке, извените великодушно!) Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете…»
Другой формат
Дарагие ЛайвЛибовцы!Извените и простите меня нелепого писаку и неуча, что осмеливаюсь беспокоить вас этим своим опоссумом. Позвольте мне сими необъятными гиероглифами по-дружески объять вас. Разрешите мне, нажимая на клавиши, виртуально пожать ваши натруженные в рецензиях руки и светлые головы.Сердечно уважаю и люблю вас, увенчанных терновыми лаврами, купающихся в зените славы летературных экспертов. Для такого книжного клопа как я, вы не только эксперты, но и продолжаете быть пертами, и останетесь таковыми до скончания рейтинга. С наслаждением читаю всегда ваши отзывы. Умное слово и кошке приятно, а Васька, как говорится, слушает, да ест. Так и я, читая ваши рецензии, вкушаю сладкие премудрости, а иногда так и просто кушаю.Но скажу без хвастовства, что и я со своим отсталым умишком кое-что понимаю. Так сказать, не из самых последних дураков. Позвольте же мне, невежде из периферии мира русскоязычной литературы, попытаться опровергнуть некоторые ваши идеи.Многие почему-то называют А.С. Пушкина сукиным сыном. Я проверил в имеющихся у меня источниках и не нашел причин для такого оскорбительного утверждения. В действительности же он был не сукин сын, а правнук эфиопа. Мне кажется, что жизнь Пушкина настолько уже обросла мифами и легендами, что его стали путать с Ремулом и Ромом. Там, правда, была волчица, да и не была она, так сказать, родной матерью своим детям. Но вы уж простите меня, дурака, страстно любящего литературу, за такую кривую гиперболу. Да и как человек может быть рожден собакой? Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.Не могу умолчать я и о часто слышимом утверждении, что Пушкин – наше всё. Что именно имеется в виду мне точно неизвестно. Возможно это тоже связано с вышеупомянутым темным прошлым поэта по материнской линии. Некоторые радивые читатели-патриоты боятся, что наследие автора будет оспорено другими странами и материками и торопятся защитить его, заявляя, что мол «всё наше».Совершенно бороздят мою душу и высказывания, что «Евгений Онегин» является энциклопедией русской жизни. Первым эту глупость произнёс основатель ЛЛ Белинский. Мне легко опровергнуть это утверждение и поставить вам, мои добрые учителя, на этом пункте запятую. Я не всегда знаю в каких пунктах их ставить, но здесь у меня просто не остаётся выбора. Разве главы романа упорядочены по алфавиту? Разве в них присутствует элементарная систематизация? Разве приведены даты? Разве автор утрудился ссылками? Нет! Он их всю жизнь избегает. Некоторые главы вообще представляют собой скорее справочники по толкованию сновидений или пособия по написанию любовных писем, чем настоящую энциклопедию.Ну довольно о Пушкине. Есть и другие писатели. Многие из вас, мозолями и бессонными ночами доказавшие своё право на собственное мнение, называют писателей инженерами человеческих душ. Это тоже какая-то ошибка. Я закончил высшее техническое учебное заведение и могу со всей ответственностью заявить, что среди всех инженерных факультетов не было ни одного выпускающего на волю подобных специалистов. Может быть имеется в виду инженеры человеческих душ…евых кабин? Но при чем здесь писатели? Впервые это выражение вошло в обиход с легкой на расправу руки другого известного литературного критика – Иосифа Сталина. Допускаю, что в то время такой факультет и существовал, наряду с прочими ненужными вещами.Спешу ласково, но безапликационно побранить тех многоуважаемых мной читателей, кто курит фимиам на ладан Чехову, восторгаясь его многозначительной недосказанностью. Я всю свою сознательную жизнь читаю книги, газеты, инструкции по применению лекарственных аппаратов, магазинные вывески и прочую высокую литературу. На мой взгляд, писатель Чехов халтурит, заставляя нас доделывать за него работу, на которой он зарабатывал свои гонореи. Мастерски увиливая, этот, с позволения сказать, писатель, сглаживает для нашего внутреннего ока все углы своей умственной сферы, так и не раскрыв нам горизонта своей истинной позиции по основным жизненным вопросам. По этой причине его рассказы могут казаться актуальными в любое время, и никакой ответственности за свои слова он не несет, что и видно по его ехидной улыбке на всех сохранившихся фотографиях.Другие литературные жрецы в читательском экстазе требуют разобрать на цитаты книги Ильфа и Петрова. Спешу напомнить, что ломать – не строить, и предупредить, что «двенадцать стульев» – это не мебель из Икеи, и вторично собрать из цитат это произведение удастся далеко не каждому эксперту. Лед тронулся, господа любители сатирической литературы, но вам то как раз лучше оставаться на своих местах, поскольку заседание продолжается.Много чего ещё беспокоит меня, ворчливого неуча, в ваших отзывах. Но не хочу доле докучать вам, драгоценные мои ученые друзья. Обязательно пишите мне, завистливому земляному червю, который тоже хочет приобщиться к нашей общей матери, литературе. Я человек темный, но тянущийся к свету знаний и чувств, как подсолнух, пробивший свои нежные лепестки из-под снега. Мне, не написавшему в школе ни одного сочинения, но живущему и питающемуся литературой, многое из вашего мастерства остаётся тайной за семью печалями. Я внимательно читаю отзывы и даже нашел в них повторяющиеся мотивы, или как сказали бы некоторые из моих многоумных товарищей, паттерны. Ужасно я предан литературе и всеми жабрами души желаю тоже высказывать свои скромные мысли. Не обделите же меня своими умными советами, дорогие увенчанные орлом славы друзья, ответьте на следующие вопросы.– На любое ли произведение нужно писать в сочиняемом сочинении, что оно актуально и сегодня?– Должен ли я забить свою нелепую головешку выученным наизусть «горе от ума» дабы хвастливо жаловаться на это и слыть интеллигентным читателем?– Есть ли в главном романе Булгакова сцены более важные чем бал у сатаны или представление в варьете?– Не могу понять своим пока ещё диким черепом действительно ли «лолита» это, либо богомерзкая ересь, либо богоосвященный шедевр гения? Правда ли что третьего не дано?– Необходимо ли быть холодным, угловатым и пресным писателем, чтобы пользоваться теорией айсберга?– С младых лет ли был И.А.Крылов дедушкой? А его баснословное обжорство и правда должно быть в отзывах неотделимо от его творчества?– Могут ли быть лишними слова о лишнем человеке в отзыве на «героя нашего времени»?Больше просить не могу, так как конфузлив, и не смею доле докучать вам своим лепетом. Пишите же и вы в наши литературные Палестины!Всегда ваш покорный друг, уважающий слуга и нерадивый ученикЖеняP.S. На фото не я
Чехов бесподобен.
Абсолютно потрясающе. Ироночно и чисто. В чеховом стиле, с приятным послевкусием.