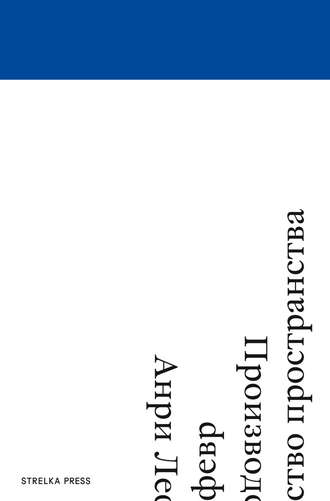
Анри Лефевр
Производство пространства
I. 19
То факт, что каждое общество производит собственное пространство, имеет еще несколько следствий. «Социальное бытие», которое считает и утверждает себя «реальным», но не производит своего пространства, останется весьма специфическим образованием, своего рода абстракцией; ему не выйти за пределы идеологии и даже «культуры». Оно уйдет в фольклор и рано или поздно погибнет, утратив и идентичность, и наименование, и остатки реальности. Тем самым намечается критерий, позволяющий отделять идеологию от практики, а также от науки (отличать переживание от восприятия и осмысления, со всеми их связями, оппозициями и диспозициями, освещениями и затемнениями).
Средневековое общество (феодальный способ производства с его вариантами и местными особенностями), безусловно, создало свое пространство. Оно возникло на уже сложившемся пространстве и сохранило его как основание и опору символики; аналогичным образом оно и сохранялось. Вехами его служили замки, монастыри, соборы – они привязывали его к ландшафту, измененному деятельностью крестьянских общин и дорожной сетью. Таково было пространство take off, начала накопления в Западной Европе; исходной точкой и колыбелью этого накопления служили города.
Капитализм и неокапитализм произвели абстрактное пространство, включающее «товарный мир», его «логику» и стратегии в мировом масштабе, а также власть денег и власть политического государства. Это абстрактное пространство опирается на широчайшие сети банков, деловых центров, крупных производственных единиц, а также на пространство автомобильных дорог, аэропортов, информационных сетей. Город, колыбель накопления, средоточие богатства, исторический субъект, центр исторического пространства, в этом пространстве распался.
Произвел ли какое-то пространство «социализм» (тот, который сегодня ошибочно называют этим словом; на самом деле «коммунистического общества» не существует, его концепт меркнет, а понятие «коммунизм» служит главным образом для поддержания двух взаимосвязанных мифов – мифа об антикоммунизме и мифа о коммунистической революции, свершившейся там-то и там-то) – то есть государственный социализм?
Вопрос не праздный. Революция, не производящая нового пространства, не идет до конца; она терпит крах; она меняет не жизнь, а лишь идеологические надстройки, институции, политические аппараты. Революционное преобразование поверяется своей способностью творить в повседневной жизни, в языке, в пространстве – не обязательно одновременно и в равной степени.
Тем не менее не стоит отвечать на этот вопрос поспешно. Он заслуживает долгого, терпеливого размышления. Вполне возможно, что революционный период, то есть период резких перемен, создает условия для нового пространства, а реализация его требует достаточно длительного времени: периода покоя. Поразительное творческое брожение в Советской России между 1920 и 1930 годами потерпело в архитектуре и урбанизме даже больший крах, чем в других сферах; за тучными годами последовали годы бесплодные. Что означает эта неудача, это бесплодие? Где сегодня архитектурная продукция, которую можно было бы назвать «социалистической» или просто новой по сравнению с продукцией капиталистической, где соответствующий урбанизм? В Восточном Берлине на бывшей Аллее Сталина, переименованной в Аллею Карла Маркса? На Кубе? В Москве? В Пекине? Где столкновение между «реальным» обществом, по праву или нет именуемым социалистическим, и замыслом нового общества по К. Марксу и Ф. Энгельсу? Как понять и усвоить мировое пространство «социалистического» общества? Короче, где испытание пространством, то есть пространственной практикой обществ, которые относят себя к «социалистическому» способу производства? И еще точнее: какова связь между цельным пространством, определяемым «социалистическими» производственными отношениями, и мировым рынком, который вышел из капиталистического способа производства, тяготеющего над всей планетой и обусловливающего разделение труда в мировом масштабе, а значит, распределение пространства, производительных сил в этом пространстве, источников и потоков богатств?
На все эти многочисленные вопросы сегодня трудно ответить из-за недостатка информации, недостатка знаний. И все же: можно ли говорить о социализме, если ничего не придумано в архитектуре, если не создано особое пространство, – и не стоит ли говорить о несостоявшемся переходе?
Предвосхищая дальнейшее изложение, можно уже сейчас сказать, что перед «социализмом» открываются два пути, два направления. В рамках одной тенденции упор делается на ускоренный рост любой ценой, по разным причинам (состязательность, престиж, власть). Государственный социализм довольствуется улучшенной версией капиталистических процессов роста; он делает ставку на опорные пункты: крупные предприятия, большие города (огромные производственные единицы и одновременно центры политической власти). Последствия этого процесса, а именно усиление неравенства в развитии, отсталость регионов и целых слоев населения, считаются в этой перспективе не заслуживающими внимания. В другой перспективе стратегия нацелена прежде всего на малые и средние предприятия и города соответствующих размеров; она стремится вовлечь в развитие территорию и народ в целом, не разделяя развитие и рост. Неизбежная урбанизация общества не может осуществляться в ущерб целым секторам, усиливая неравномерность в росте и развитии; она должна преодолеть оппозицию города и деревни, а не размывать одно в другом в неразличимой магме.
Классовая борьба? Она влияет на производство пространства, производство, где субъектами действия являются классы, части и группы классов. Сегодня классовая борьба более, чем когда-либо, считывается в пространстве. Собственно, только она не позволяет абстрактному пространству распространиться на всю планету, в буквальном смысле стирая все различия; только она обладает способностью к дифференциации, способностью производить различия, которые не являются имманентно присущими экономическому росту, рассматриваемому как стратегия, «логика» и «система» (где различия стимулируются или допускаются). Формы этой борьбы куда более разнообразны, чем ранее. К ним, безусловно, принадлежат и политические выступления меньшинств.
В первой половине ХХ века аграрные реформы и крестьянские революции придали новый облик поверхности планеты; по большей части эти изменения пошли на пользу абстрактному пространству: прежнее пространство, пространство исторических народов и городов, было отшлифовано (и автоматизировано). Впоследствии эту деятельность продолжили городские герильи и вмешательство «масс» даже в городах, особенно в Латинской Америке. В мае 1968 года во Франции, когда студенты, а затем и рабочий класс заняли свое пространство и взяли на себя ответственность за него, в этом движении обозначились новые черты. Задержка (безусловно, временная) этой реапроприации пространства у многих вызывает разочарование. Изменить существующее пространство якобы способны только бульдозер и коктейль Молотова. Разрушить до основанья, а затем восстановить? Да, но что именно? Создать заново те же продукты в рамках тех же способов производства? Разрушить заодно и эти способы? Подобный подход преуменьшает противоречия существующего общества и пространства; он бездоказательно допускает, что «система» закрыта; осыпая эту систему бранью, он подпадает под ее притяжение и опрометчиво прославляет ее могущество. Подобная шизофреническая «левизна» несет в себе собственные «бессознательные» противоречия. Призыв к абсолютной стихийности как в разрушении, так и в созидании предполагает также и разрушение мысли, науки, способности к изобретательству – под тем предлогом, что они не позволяют немедленно совершить тотальную и абсолютную революцию, дать определение которой, впрочем, никто не может.
Однако следует признать, что в борьбе за пространство и в пространстве инициатива по-прежнему принадлежит буржуазии. Отсюда и ответ на поставленный выше вопрос: о пассивности, молчании «пользователей».
Абстрактное пространство функционирует в высшей степени сложно. Точно так же, как диалог, это пространство предполагает молчаливое соглашение, пакт о ненападении, почти договор о неприменении силы. Иначе говоря, о взаимности, о совместном пользовании. Подразумевается, что ни один прохожий на улице не нападет на встречных; агрессор, преступающий этот закон, совершает преступление. Подобное пространство предполагает «пространственное устройство», согласующееся с речевым устройством, хотя и отличное от него; оно делает значимыми для людей определенные отношения в определенных местах (магазинах и лавках, кафе, кинотеатрах и пр.) и, как следствие, порождает коннотативные высказывания об этих местах, следствием которых является некий «консенсус», соглашение – предполагается, что в этих местах избегают неприятностей, что туда идут спокойно, там чувствуют себя хорошо и т. д. Что же касается высказываний денотативных, то есть описательных, то они приобретают почти юридический вид и также влекут за собой консенсус: нельзя драться, чтобы занять одно и то же место; следует оставлять свободное пространство, по возможности соблюдая проксемику, почтительное расстояние. Отсюда, в свою очередь, вытекает логика и стратегия собственности в пространстве: «все твое, место и вещи, не является моим». И тем не менее существуют общественные места, места совместного пользования, владение и потребление которых не может быть всецело частным, – такие, как кафе, площади и памятники. Кратко описанный здесь пространственный консенсус есть часть цивилизации – точно так же, как запрет некоторых грубых и оскорбительных действий (по отношению к детям, женщинам, старикам и даже населению в целом). Тем самым классовой борьбе, как и другим видам насилия, противопоставляется иная цель – не-завладение.
Любое пространство существовало до появления актора – субъекта, одновременно индивидуального и коллективного, ибо он всегда является членом некоей группы или класса, которые пытаются присвоить себе это пространство. Это заранее существующее пространство обусловливает присутствие, деятельность, дискурс данного «субъекта», его компетенцию и перформацию; и тем не менее присутствие, деятельность, дискурс «субъекта», предполагая это существование, одновременно его отрицают – «субъект» испытывает его как препятствие, как сопротивляющуюся предметность, иногда неумолимо жестокую, вроде бетонных стен, которые почти невозможно хоть сколько-нибудь изменить и с которыми к тому же, согласно драконовским правилам, запрещено обращаться так, чтобы их изменить. Таким образом, текстура пространства не только вызывает не имеющие к ней отношения и неуместные социальные действия, но и рождает обусловленную ею самой пространственную практику, некий коллективный и индивидуальный способ ее использования. А значит, порождает последовательность действий, которые не сводятся только к практике означивания, хоть и включают ее. В процессе этих действий жизнь и смерть не только становятся предметом мысли, подражания, высказывания – но и свершаются. Время внутри пространства потребляет, пожирает живое существо: это жертва, наслаждение или страдание. Но абстрактное пространство, пространство буржуазии и капитализма, связано с обменом (имуществом и товарами, словами, текстами, речами и пр.) и потому в большей мере, чем любое другое, предполагает консенсус. Надо ли добавлять, что насилие в этом пространстве не всегда остается латентным и скрытым? В этом одно из его противоречий: противоречие между внешней безопасностью и насилием, которое постоянно грозит прорваться, а иногда и прорывается то там, то здесь.
Былая классовая борьба буржуазии и аристократии произвела пространства, где борьба эта явлена наглядно. В результате этого конфликта, оставившего самоочевидные следы и результаты, изменился облик многих исторических городов. Буржуазия, одержав политическую победу, разрушила аристократическое пространство Маре в историческом центре Парижа, включила его в материальное производство, поселила в пышных особняках мастерские, магазинчики, квартиры; она обезобразила и по-своему оживила это пространство, сделав его более «народным». Сегодня там идет процесс элитизации, вторичного обуржуазивания; буржуазия сохраняет инициативу в крупном историческом городе. Она сохраняет ее и в куда более широком масштабе. Она начинает экспорт «вредных» производств в слаборазвитые страны – Бразилию в Америке, Испанию в Европе, вводя тем самым внутренние различия в единый способ производства.
Средиземноморское побережье становится пространством досуга для индустриальной Европы. Это примечательный случай производства пространства, которое идет за счет различия, заложенного в самом способе производства; являясь пространством досуга и даже, в известном смысле, не-труда (отпусков, а также выздоровления после болезни, отдыха, жизни на пенсии и т. д.), побережье Средиземного моря входит тем самым в социальное разделение труда; здесь утверждается неоколонизация – экономическая и социальная, архитектурная и урбанистическая. Иногда это пространство пытается выйти за рамки требований неокапитализма, которым оно подчинено; его использование требует экологических качеств: наличия солнца и моря, близости городских центров и временных жилищ (гостиниц, домиков). Таким образом, оно обладает известной качественной спецификой – в отличие от крупных промышленных центров, где царит количественное в чистом виде. Если воспринимать эту «специфику» некритично, то оно будет выглядеть пространством непродуктивных трат, широкого разбазаривания средств, гигантского, напряженного жертвоприношения избыточных вещей, символов, энергии: не столько отдыха, сколько спорта, любви, обновления. Города – центры досуга с их едва ли не «жертвенностью» якобы резко противостоят городам Северной Европы – центрам производства. В конце временной цепи, ведущей от места работы и пространства производства к потреблению пространства, солнца и моря, к стихийной или сознательно вызванной эротике, к празднику Отпуска, окажется трата, мотовство. То есть мотовство и трата будут находиться не в начале цепочки, как первичное событие, но в конце, придавая ей смысл. Какое заблуждение! Насколько ложна эта прозрачность и обманчива эта естественность! Все эти непроизводительные траты тщательно организуются; они централизованы, упорядочены, выстроены по значимости, запрограммированы, имеют символическое измерение и приносят выгоду «туроператорам», банкирам и промоутерам из Лондона, Гамбурга и т. д. Выражаясь еще точнее, с помощью намеченных нами понятий, можно сказать, что в пространственной практике неокапитализма, с его воздушным транспортом, репрезентации пространства позволяют манипулировать пространствами репрезентации (пространствами солнца, моря, праздника, мотовства и трат).
Все эти замечания имеют одну цель: конкретизировать понятие производства пространства – и показать, как идет классовая борьба при гегемонии буржуазии.
I. 20
«Изменить жизнь», «изменить общество» – все эти слова бессмысленны, если нет производства соответствующего пространства. В неудаче советских конструктивистов 1920-х годов заложен важный урок: новым социальным отношениям – новое пространство и наоборот. Это положение, вытекающее из нашего основного положения, нуждается в подробном разъяснении. «Изменить жизнь!» Эта идея, воспринятая у поэтов и философов и оформившаяся в утопию отрицания, недавно попала в публичную, то есть политическую, сферу и, распространяясь в ней, вырождается в политические лозунги. «Жить лучше», «Жить по-другому», «Качество жизни», «Условия жизни»… Отсюда естественным образом переходят к загрязнению среды, сохранению природы, к «окружающей среде». Раз – и готово: нет больше ни давления мирового рынка, ни преобразования мира, ни производства нового пространства. Идея возвращается в область идеального, тогда как речь идет о том, чтобы постепенно (или рывками) вывести на свет иную пространственную практику. Пока в абстрактном пространстве сохраняется повседневность с ее предельно конкретными требованиями, пока будут происходить лишь частные технические улучшения (расписание транспорта, его скорость и относительный комфорт), пока пространства (труда, досуга, проживания) будут оставаться раздельными, объединенными только политическим органом и его контролем, проект «изменения жизни» останется политическим лозунгом, который то отбрасывают, то подхватывают вновь.
Такова ситуация, в которой бьется теоретическая мысль, не без труда пытаясь обойти препятствия. С одной стороны, она видит пропасть утопий отрицания, тщеславие критической теории, действующей только на уровне слов и репрезентаций (идеологий); с другой – сталкивается с весьма позитивными технологическими утопиями: прогностикой и программированием. Ей остается лишь констатировать факт применения к пространству (а значит, к существующим социальным отношениям) кибернетики, электроники, информатики и пытаться вывести из этого некоторые уроки.
Намеченный нами путь связан, таким образом, со стратегической гипотезой, с долгосрочным теоретическим и практическим проектом. Политическим проектом? И да и нет. Он включает политику пространства, но выходит за рамки политики и предполагает критический анализ любой политики пространства и любой политики в целом. Этот проект указывает путь к производству иного пространства, пространства иной (социальной) жизни и иного способа производства, преодолевает зазор между наукой и утопией, между реальным и идеальным, между осмыслением и переживанием. Он стремится преодолеть их противоположность, развивая диалектические отношения «возможное/невозможное» как в объективном, так и в субъективном плане.
Роль стратегической гипотезы в познании уже не нуждается в обоснованиях. Благодаря ей познание сосредоточивается на том или ином пункте, том или ином ядре, концепте или группе концептов, рассматривая их в фокусе. Стратегия оказывается либо удачной, либо неудачной; она действует более или менее долгое время, а затем размывается или распадается. Она сравнительно устойчива применительно к тактическим приемам познания и действия, но, естественно, остается временной, а значит, подлежащей пересмотру. Она мобилизует, но не нацелена на достижение какой-либо вечной истины. Стратегический механизм равно или поздно ржавеет. Смещение центровки нарушает все выстроенное вокруг данного центра.
В недавнее время было сделано несколько тактических и стратегических попыток с целью учреждения (хочется иронически обыграть оба значения слова) неприступной крепости знания. Ряд простодушных и хитрых ученых расписались в собственной преданности науке, вынеся за скобки все вопросы, которые ставит сама наука: отдали первенство знанию и наблюдению, а не переживанию. Последним по времени стратегическим опытом подобного рода стала ориентация знания на лингвистику и производные от нее дисциплины – семантику, семиологию, семиотику. Ранее имели место попытки ориентировать знание на другие науки – политэкономию, историю, социологию и т. д.
Эта новейшая гипотеза породила большое количество исследований, трудов и произведений – как выдающихся, так и переоцененных и недооцененных: иерархия всегда подвержена пересмотру, в ней нет ничего вечного и неизменного. Сейчас убеждение в том, что можно выстроить единый, определенный и окончательный центр знания, пошатнулось. Как изнутри, так и снаружи. Изнутри оно вызывает вопросы, на которые не может дать ответа: например, вопрос о субъекте. Систематическое изучение языка и/или изучение языка как системы разрушили «субъект» во всех пониманиях этого слова. Теперь рефлектирующая мысль собирает осколки своего зеркала: ей нужен «субъект», и она обращается к старинным «субъектам» философов: к декартову Cogito (подхваченному Хомским со всеми своими отличительными свойствами: единством глубинных структур дискурса, всеобщностью его поля сознания), к Эго Гуссерля, модернизированному варианту декартова Cogito. Но Cogito не способно сохранять свою философскую (метафизическую) субстанциальность, особенно если его пытаются столкнуть с бессознательным – изобретенным именно для того, чтобы отказаться от Cogito.
Именно здесь проявляется вся важность предыдущего замечания. В рамках этой гипотезы социальное пространство широким жестом объединяется с пространством физическим. Его сводят к эпистемологическому (ментальному) пространству, пространству дискурса и декартова Cogito, забывая при этом, что практическое «я», в котором индивидуальное неотделимо от социального, существует в пространстве, где оно ориентируется (или плутает). Бездумно перескакивая от ментального к социальному и обратно, мы переносим на дискурс (в частности, на дискурс о пространстве) свойства пространства как такового. Некоторые, правда, ищут опосредующее звено между ментальным и социальным в теле: голосе, жестах. Но соответствует ли это абстрактное тело, рассматриваемое только как медиатор между «субъектом» и «объектом», телу практическому, из плоти и крови, телу как целому, обладающему пространственными свойствами (симметрией, асимметрией) и свойствами энергетическими (тратами, сбережениями, мотовством)? Далее мы покажем, что одно лишь изучение тела как целого (практико-чувственного) способно иначе направить познание, сместить его центр.
Стратегия знания, ориентированная на дискурс, уходит от самого неприличного вопроса: о взаимосвязи знания и власти. К тому же она не дает удовлетворительного для рефлектирующей мысли ответа на поставленный ею же теоретический вопрос: «относятся ли множества невербальных знаков и символов – кодированные и не кодированные, систематизированные и нет – к тем же категориям, что и множества вербальные, или же эти множества не совпадают?» К числу невербальных знаковых множеств следует отнести музыку, живопись и скульптуру, архитектуру, по-видимому, театр, ибо он, наряду с текстом или предтекстом, включает в себя жесты, маски, костюмы, сцену, постановку, короче говоря, некое пространство. Следовательно, невербальные множества имеют пространственный характер, несводимый к «ментальности». В известном смысле их частью являются и сельские и городские пейзажи. Недооценивая пространство, пренебрегая им, ограничивая его, мы тем самым переоцениваем тексты, письменность и типы письма, читаемое и видимое, и сводим к ним всю сферу интеллигибельного.
Выдвинутую нами стратегическую гипотезу можно сформулировать следующим образом: «Теоретические и практические вопросы, связанные с пространством, приобретают все более важное значение. Их решение не отменяет, но смещает понятия и проблемы, касающиеся биологического воспроизводства, производства средств производства и потребительских благ». Маркс писал, что способ производства исчезает не ранее, чем высвободит производительные силы и реализует все заложенные в нем возможности. К этому утверждению можно относиться либо как к очевидности, либо как к удивительному парадоксу. Скачок производительных сил – совершившийся без отмены капиталистических производственных отношений – подменяет производство вещей в пространстве производством самого пространства или, вернее, накладывает одно на другое. Производство это (по крайней мере, в некоторых случаях, поддающихся наблюдению и анализу) сопутствует давлению мирового рынка и воспроизводству капиталистических производственных отношений. Деспотическая просвещенная буржуазия и капитализм частично подчинили себе товарный рынок, используя в качестве орудия абстрактное пространство. Подчинение рынка капиталов оказывается делом более трудным (так называемые «монетарные» трудности). Сочетание жесткого политического господства с ростом производительных сил и недостаточной управляемостью рынков приводит к пространственному хаосу на всех уровнях, от окрестного квартала до всей планеты. Буржуазии и капитализму уже сейчас чрезвычайно трудно подчинять себе свой продукт и орудие господства – пространство. Они не способны ограничить практику (практически-чувственное, телесное, социально-пространственную практику) своим абстрактным пространством. Возникают и проявляются новые противоречия – противоречия пространства. Быть может, пространственный хаос, порожденный капитализмом, несмотря на могущество и рациональность государства, превращается в его слабое звено, в его уязвимое тело?
Может ли эта стратегическая гипотеза повлиять на общепринятые политические стратегии, а именно на мировую революцию, совершаемую политическим путем одной-единственной партией, в одной-единственной стране, одним-единственным учением, одним-единственным классом – коротко говоря, одним-единственным центром? Может ли она их заменить? Как все помнят, крах моноцентрической гипотезы вызвал появление другой стратегической гипотезы – о преобразовании, совершенном третьим миром.
Собственно, речь не идет ни о догматической замене одной из этих гипотез на другую, ни о простом преодолении оппозиции между «моноцентризмом» и «полицентризмом». Преобразование мира, именуемое прижившимся словом «революция», оказывается поистине всемирным (планетарным)[39], а значит, множественным и многообразным. Оно свершается как в теоретическом, так и в политическом плане: теория смыкается с политикой. Оно происходит как в технике, так и в познании и в практике. Где-то главной силой, активной и/или пассивной, были и остаются крестьяне, а где-то маргиналы или передовой рабочий класс, делающий неожиданный выбор. В одних местах преобразование мира принимает ускоренный, бурный оборот, а в других происходит подспудно, внешне спокойно и мирно. Где-то господствующий класс принимает решения, а где-то разлетается вдребезги.
Стратегическая гипотеза, относящаяся к пространству, не исключает ни роли так называемых «слаборазвитых» стран, ни роли промышленных стран и их рабочего класса. Напротив: ее принцип и цель – связать разрозненные аспекты, соединить вместе отдельные движения и элементы. Она представляет собой попытку осмыслить мировой опыт как таковой – как множество различных опытов мирового пространства; для нее неприемлема однородность, насаждаемая государством, политической властью, мировым рынком и миром товара – та однородность, которая на практике выражается в абстрактном пространстве и выражает себя с его помощью. Эта гипотеза предполагает учет всех различий, в том числе обусловленных природой – тех, на которые обращает внимание экология, выделяя из других (различий режимов, стран, поселений, этносов, природных ресурсов и т. д.).
Стоит ли подробно доказывать, что «право на различие» имеет смысл лишь в контексте реальной борьбы за различие и что различия, произведенные в ходе этих теоретических и практических битв, отличаются от природных особенностей и разграничений, стимулируемых в существующем абстрактном пространстве? Да, стоит. Только тонкий анализ может выявить различия, заслуживающие упоминания, те, на усиление которых могут делать ставку теория и действие.
Восстановление «кода» пространства, то есть языка, общего для практики и теории, для жителей, архитекторов и ученых, можно считать неотложной тактической задачей. Прежде всего, в подобном коде проявилось бы единство разрозненных элементов: личного и общественного, схождений и различий в пространстве. Он собрал бы воедино понятия, рассеянные в существующей пространственной практике и идеологиях, которые ее обосновывают: микро (архитектурный масштаб или уровень) и макро (уровень, находящийся в ведении урбанистов, политиков, планировщиков), повседневное и городское, внутреннее и внешнее, труд и не-труд (праздник), долговечное и мимолетное и т. д. Таким образом, этот код состоял бы из релевантных (парадигматических) оппозиций ныне разрозненных терминов – и (синтагматических) связей, заложенных в понятиях, смешанных в гомогенном, политически контролируемом пространстве. В этом смысле он мог бы помочь обратить вспять господствующую тенденцию и войти в общий проект. При условии, что этот код не будет считаться практикой! А следовательно, при условии, что анализ языковой сферы не будет отделен от практики и от изменений практики (мирового процесса преобразования)…
Разработка такого кода сама по себе предполагает стремление работать прежде всего на уровне парадигматики, то есть основных оппозиций – скрытых, имплицитных, невысказанных, – задающих направление социальной практике, а не на уровне эксплицитных связей, цепи рабочих терминов, одним словом, не на уровне синтагм (языка, обыденной речи, письма, чтения, литературы и т. п.).
Подобный код связан со знанием. Он группирует алфавит, лексику, грамматику в, если можно так выразиться, глобальных рамках; он соотносит себя с не-знанием (невежеством или непризнанием), не исключая его, то есть соотносится с переживанием и восприятием. Такое познание не скрывает, что является приблизительным, точным и в то же время неопределенным (неясным?). Оно на каждом шагу заявляет о своей относительности, занимается (или пытается заниматься) самокритикой, не растворяясь при этом в апологии незнания, абсолютной стихийности или чистого насилия. Оно ищет путь между догматизмом и незнанием.


