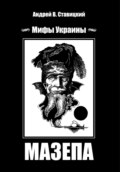Андрей В. Ставицкий
Седьмая печать (фрагмент 10): Вторая Печать Молчания
– И где моя смерть? – спросил Дольский.
– Уже рядом, – Незнакомец вдруг нагнулся к его уху и перешёл на шёпот. – Может быть, за спиной. Дышит в затылок.
От этих слов Дольскому стало нехорошо.
– Какая она?
– Увидишь, – тихо сказал Незнакомец расслабленно и, помолчав, добавил. – Скоро. Этой ночью.
– И что я ей скажу?
Ответа на свой вопрос Дольский уже не слышал. Его несло куда-то сквозь прозрачные города. Лабиринты оживших улиц, где стены домов охотятся за тобой. Они чувствуют твою плоть и жаждут… Он ощущал лёгкое дыхание Смерти над ухом и чьи-то голоса, пытавшиеся пробиться, докричаться, что-то объяснить:
«Меня уже нет!… И меня…» Их тела знают. Он услышал чей-то крик в сполохах пожара, монотонный голос, читающий чей-то приговор, и тихий, далёкий стон…
«А я умер, когда она ушла… Никто не заметил этого тогда. Просто сказали, что я изменился… Что ждёт тебя? Что ждёт тебя?.. То же, что и нас… »
«Элиза!.. Элиза! Где ты?.. Я люблю тебя… Как ты могла?» – прошептала ему мужским голосом темнота. И он увидел мёртвого юношу, лежащего в крови на полу комнаты с огромной раной на голове. Вокруг него столпились люди, и Дольский не успел рассмотреть из-за них его лица.
Видение вдруг пропало, и вместо него Дольский услышал шум ночного Леса и кого-то яростно скачущего напролом в темноте. Кто-то звал его из Бездны, но чьим именем называли его, Дольский не слышал.
– Понимание требует слов, но Мир не может быть ограничен словами, – снова заговорил Незнакомец. – Он испытывается бессловесно. Но знаки посылаются постоянно. Иногда их слышат. И даже периодически понимают. Не всегда, правда, правильно. – Он мрачно засмеялся. – Вот, скажем, ночью в семье жителя Мекки Абдаллы-Эль-Муталиба родился мальчик. Войско, осадившее в это время город, было поражено ужасной болезнью и погибло. Но радость царя персов Хозроя Ануширвана была омрачена тем, что священные сосуды в его дворцовом храме опрокинулись и огонь, символ божества, потух. Это было предупреждение. В ту ночь родился пророк всех мусульман Мухаммед.
Вот так, – заключил он, – если глаза светлы и промыты светом, то, что бы мы ни увидели, мы это примем с открытым сердцем. И тогда мир станет подобен последней утренней звезде.
– Не о той ли утренней звезде ты говоришь, которую звали Люцифер1? – неожиданно для себя спросил Дольский.
– Ну, зачем же так? – Незнакомец скривился. – Христос тоже называл себя звездой утренней2. Но никто его после этого не называл Люцифером. В византийской церковной поэзии звездой, являющей солнце, называли Марию, а Ориген3 считал, что Иоанн Креститель предвозвещает Христа, как утренняя звезда предвозвещает солнце. Будем продолжать?
Дольский промолчал.
– Вот-вот, – улыбнулся краем губ Незнакомец. – Хорошо, что у тебя нет ответа. Значит, в тебе есть пустое место для него. И ответ низойдёт.
Но должен заметить, – он с игривым укором помахал указательным пальцем, – что твой вопрос не случаен. Он определяется твоей формой. Рамками, в которых ты мыслишь. Люди держатся за старое, отжившее, мёртвое, потому что в нём не нужно меняться. Они отогреваются в пепле былого. Но форма, привитая семьёй, обществом, не позволяет тебе течь. Если бы ты знал, как это иногда необходимо: омыть себя в водах безумия. Они текут сквозь тебя, пока не смоют всё наносное, и тогда ты сможешь сказать: «Я всего лишь тёк. А они решили, что я сошёл с ума. Я их понимаю. У мёртвых нет места для живого». Чтобы понять живое, надо самому стать живым. Чтобы стать живым, надо проснуться и стать просветлённым.
Просветление – безумие обыденности, – задумчиво продолжал Незнакомец. – Безумие, когда пропасть под тобой перестаёт существовать. Когда небо становится твердью, а воды держат тебя, как земля. И тогда для тебя не будет предела, потому что ты везде и во всём найдёшь опору, сравнявшись и слившись с ним. Падает ли воздух? Тонет ли вода? Может ли сгореть пламя? Они этого даже не знают.