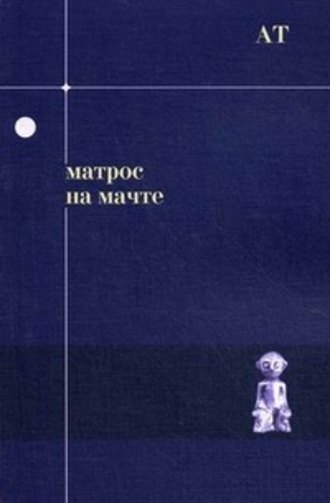
Андрей Тавров
Матрос на мачте
Рисковый человек
Шарманщик думал про Брейгеля, про его Вавилонскую башню. А что если это ад, вывернутый к небу? Потому что если ад у Данте – воронка с разными причудливыми персонажами, начиная с тех, кто ничего не совершил в жизни из-за своей малости и нерешительности, и заканчивая тем местом, где в Коцит вмерз Сатана, то там же есть такая точка, где все переворачивается. Она расположена на голове как раз Сатаны, прямо посреди его косматой головы или где-то на другом косматом месте. Он не мог точно вспомнить, где это место, но это было неважно, а важно было то, что Вергилий и Данте, достигнув этого места на теле Сатаны, чтобы двигаться дальше, теперь переворачиваются вверх ногами, а если они это делают, то в этой точке и ад должен тоже, может, явно, а может, и не очень явно, а по большей части невидимо перевертываться, выворачиваться наизнанку и вверх ногами. А вот место, где это выворачивание видно, надо еще поискать. «Хотя, конечно, с этим лучше не связываться без надобности», – подумал Шарманщик, но рассуждения все же продолжил.

Раз мы что-то представили, оно существует. Вот только где и когда? Но вот Брейгель понял, что вывернутый ад вполне может обозначить свою гигантскую воронку вверх ногами где-нибудь на земле. (Код к этой задачке он оставил, если внимательно вглядеться в изображение, заложив его в форму облака слева от вершины башни, и форма эта воспроизводит как раз воронку «правильного» ада, от которой отталкивается земная, а вернее, надземная башня). И если первый ад был полым, то вывернутый должен быть тяжелым и заполненным. И если там, под землей, наверху были никчемные люди и ангелы, не способные ни на добро, ни на зло, такие все сплошь чеховские персонажи, а внизу ― вмерзший в лед Сатана, то в Вавилонской башне никчемные будут в самом низу, рядом с морем, пристанью и кораблями, там, где плоскость башни распространяется по земле и ее городам, упертым в эту землю и эту плоскость, а Сатана на самой ее вершине – там, где начинается небо с облаками.
«Так-так, – заволновался Шарманщик, – и что же тут получается такое, что из этого следует в таком случае?» А следовало из этого вот что. Из этого следовало, что большинство людей – никчемные, раз они находятся вровень с низом башни. И города их – лишние и чеховские. И плоды рук их ни к чему не приводят, и могут они что-то делать или могут ничего не делать – это все равно, потому что ничего в действительном мире они сделать не в состоянии. И именно из них-то и состоит в основном весь народ земли. А выше всех на такой земле (а что, разве есть какая другая?) находятся предатели – те царят прямо рядом с Сатаной, под облаками. И если в аду обыкновенном он их пожирает, то в вывернутом ласкает и наделяет всяческой властью, вызывающей зависть у тех, кто ниже. А кто ниже – насильники, убийцы, дающие в рост, то есть продающие деньги по Марксу, все банки, весь большой бизнес – начиная от российского газа и нефти и кончая израильским оружием, потому что ныне все это идет через банки и деньги, хочешь ни хочешь, становятся товаром, а значит, все дающие в рост – компания очень современная и многочисленная, и отсюда выходит, что не только венецианский Шейлок виноват, потому что брал в рост, покушаясь на кусок живого мяса прямо из твоего тела, а и современные евреи и гоим виноваты не меньше. Потому что они не только покушаются, но уже и отрывают. От земли и от людей поочередно.
А если зайти с другой стороны, снизу, то там будут парить над землей на высоте примерно десятиэтажного дома Паоло и Франческа, нарушившие запрет недозволенной любви. И Шарманщик порадовался, что хотя тут и есть много тонкостей с этим вывороченным миром и иерархией греховности, но все же, если отложить их на время в сторону то ясно видно, что убитые некогда за свое чувство любовники здесь парят, окрыленные своей преступной любовью, выше земли и выше голов других, не столь преступных, но зато и невлюбленных. И конечно же, парят они не только выше земли, но и – расширяясь от башни, уходя от нее на любое желательное расстояние, потому что раз это вы-воротка, то все, что в невывороченном, обыкновенном, аду помещалось внутри, здесь должно разместиться снаружи. Причем граница этого размещения, там где вывороченный мир соприкасается с нашим, обыкновенным, должна пульсировать и искрить. Пульсирует она туда и сюда примерно так, как большие качели, или даже медленнее и прозрачнее, как, скажем, океанские приливы и отливы. И там, где край вывороченного мира встречается с невывороченным, должны случаться загадочные вещи – рождаться гении, пропадать люди и города, время идти назад, зачатие делаться непорочным и царить чистая вероятность и бессмертие. В этих местах существует бесконечное количество вариантов для любой жизни и судьбы, причем сразу и одновременно. И тот, кто стоит на этой границе, очень легко – интуитивно он чует это – может выбрать любой из них прямо сразу и без всяких хлопот или обычных трудных усилий. И ангел прошептал Шарманщику в этот момент, а как это случилось, Шарманщик так и не понял, прошептал, что некоторые выбрали деньги, некоторые – поход на Россию и право на свою собственную Французскую империю, некоторые (люди невероятной внутренней силы) – Тайную Вечерю в Милане или театр «Глобус» в Лондоне, но никто не выбрал – любви и счастья. «И знаешь почему? – прошептал, изогнувшись с неба, ангел в ухо Шарманщику. – Потому что несчастье – ваше сокровище. И вы сплошь выбираете его».

И Шарманщик как-то сразу поверил ангелу. Потому что однажды, когда его сбил грузовик и он упал с велосипеда и разбился насмерть, душа его чуть не улетела на небо навсегда, но вот такой же точно или даже этот же самый ангел присел на втулку вращающегося колеса, опрокинутого в кювет, и позвал его далеко ушедшую душу. И душа Шарманщика сдернулась с неба, вернулась обратно. С тех пор он уважал ангелов и верил в них.
И еще Брейгель понял, что, находясь теперь на вершине башни под облаками, Коцит размерзся, и там, где он находился, на самом верху Башни, забил источник. Имя ему Майя, Иллюзия или Цитата. Воды его сбегают с боковин башни бесшумными и прозрачными каскадами ярусов и пилонов, и потом распространяются по всей земле как прозрачное стекло, проницаемое для людей, кораблей, ласточек и травы. И когда их потоки достигают людей и их душ, то люди перестают жить своей собственной глубокой жизнью, которая рождается в собственных их душах и в собственном источнике живой и ни на кого другого не похожей жизни, и начинают жить не там, а на своей поверхности, совершив выворотку вослед башне. Теперь они живут не своей жизнью и умирают не своей смертью, а – подражая. Сначала богатому соседскому мальчику, потом успешному юристу, или психологу, или президенту, или неважно кому. Богатой проститутке или бедному поэту (что почти вывелось. Имею в виду подражание поэту). Или благородным убийцам, заполонившим телеэкраны, или стерве, которая гордится тем, что стерва не кто-то там вдалеке, а именно она сама – стерва. Или даже еще кому-то, еще не очень конкретному, но кого можно цитировать точно так же, как одна из башен-близнецов цитировала другую, пока обе не сгорели и не развалились. Люди боятся собственной уникальности. Они стремятся не создать свою жизнь изнутри, а повторить снаружи, процитировать то, что было сказано до них. А сказано было до них, что мир зол, что всем вечно всего не хватает и никогда не хватит. Что в поту и труде. Что в скорбях. Что ты умрешь. Что другой тебе враг. Что богатый прав. Что счастья не бывает. Что мы не боги, а черви. Блажен обокравший. Убей, а то проиграешь. Не будь дураком, солги. Посылай на хер. Подставляй что надо кому надо. Забей на подробности – возьми прайс. Сотвори бизнес. Пройди кастинг. Соверши шопинг. И отъебись от нас, ради Бога, отъебись поскорее.
И сколько бы Иисус, например, или другие пророки ни утверждали обратного, их слова цитируются, но в расчет не берутся. Потому что Цитата позволяет себя использовать так, чтобы сильнее вогнать тебя в землю праха. Это и есть ее настоящая цель. Но даже земля праха – иллюзия.
Земля Сеннаар
Потом он взял в руки веер, подпрыгнул на месте, и указал кончиком веера на станцию метро «Калужская». Там он и очутился. Причем лицо его было раскрашено в красные полосы, что в театре Кабуки означает силу и добрый нрав. Потом он закрыл глаза и вгляделся в зеркало, воображаемое им точно так же, как веер и красные полосы на щеках. Он вглядывался в себя, в свое отражение и настраивался на то, чтобы рассказать матери в приюте какую-нибудь историю, а потом помолиться рядом ней вслух. Потому что, когда он молился, она, ничего до этого не понимавшая, вдруг начинала слушать, лицо ее светлело, и она слушала внимательно, лишь изредка приговаривая: хорошо! как хорошо! Он закрыл глаза и от этого оказался в темноте своего Я. Там он еще раз повторил все движения – они были безупречны, пластичны. Хор уже начинал наигрывать свою волшебную музыку. Ему теперь не требовалось никаких сил, чтобы все нужные движения произвести и нужные слова сказать, и от этого матери станет светлее и лучше. Хотя, конечно, выйдет так, что это будут другие слова, но он все равно будет верить вопреки очевидности, что для них ему не надо никаких специальных сил. Как Единорогу, бабочке или самокату.
Он снова открыл глаза. В сумке бултыхалась бутылка кока-колы и лежала шоколадка с изюмом «Альпен-Голд». Сначала он по неопытности приносил всего много, но мать никогда не помнила, что у нее в холодильнике что-то лежит, да и про сам холодильник она тоже не помнила. Поэтому она ела с рук. Все, что можно съесть сразу, не откладывая.
Спуск к больнице он прошел быстро, как Мирон с его Дискоболом, миновал усатого вахтера – сразу запахло кисловатым, неприятным запахом щей – тот переписал уже, наверное, в сотый раз слова с его паспорта в свою гостевую книжку и пропустил. И вот эти слова:

На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле.


Пустим зрение впереди языка, как какого-нибудь марафонского бегуна, чтобы оно успело сбегать вверх и вниз, обежать башню по и против часовой, и обдиралось о кустарники и цеплялось за сучья, и отдыхало на океане с парусами, которые внизу. А на корабле на мачту лезет маленький матрос, и давайте посмотрим на этого почти незаметного, почти что нулевого матроса, который тем не менее, не вдаваясь ни в какие соображения по поводу своей мушиной, мелконасекомой малости, все же лезет туда, куда ему надо, и с того места, где он находится, уцепившись за веревочные перехваты лестницы, высота для него очень даже немалая, и если оттуда сорваться, то кончится плохо. А вместе с ним лезет вверх целый мир и судьба – например, его семья, которая осталась на земле далеко отсюда, а он отдельно лезет на мачту, а семья его живет совсем в другом городе и, возможно, сейчас слушает какую-нибудь музыку, если праздник, или в церкви, или мать, например, кормит ребенка грудью и учит говорить «папа», а у того тоже целый мир перед глазами, и все ангелы летают как бабочки, белые, бескрайние, веселые. И если этого матроса никто и не видит, то он, конечно, все равно видит в памяти, как они прощались, и в воображении, как они встретятся.
А потом взгляд-солдат-марафонец огибает башню и старается не цепляться за отдельных людей, а добраться с разгона до верха, но вновь ничего не получается, потому что он застревает на крошечной фигурке, которая мочится на глыбу белого мрамора, а потом на другой, которая разворачивает повозку то ли с дровами, то ли со строительным материалом. Но все ж поднимается взгляд до тех высот, где смешиваются языки, и слышит там разные вещи – и радостные, и печальные, но слов не понимает, да и зачем взгляду их понимать. Вот стоит Нимрод-Царь, а вот рядом с ним в ногах его валяется бригадир строителей, должно быть, хочет сказать, что работы накрылись, но Нимрод его все равно уже больше не поймет, а поймет каждый лишь то, что он думает сам, и для него это теперь самое главное. А что вы делаете здесь, ребятушки? А делаем мы здесь себе имя. Да как же, ребятушки, вас понимать? Как это имя можно себе делать, каким, объясните, нам, русалкам-загадкам, образом, пожалуйста. А мы и сами не знаем, как это происходит, но только будет оно, это имя, как царица русалок – большое, чешуей под солнцем блестящее, выпуклое и грозное. А мы будем в него входить и выходить, и уже никогда нас не забудут на земле, что бы с нами потом ни случилась, кого бы ни рассек враг саблей или, например, ужалила змея, или просто от старости помер, а имя все будет стоять, чешуей блестеть под солнцем да глазами смотреть на землю и птицам повелевать да червякам в гробах и на пахоте. Так, значит, вы до конца не умрете, ребятушки, а в имени жить будете? Только вот непонятно, как мы с вами разговариваем, потому что ни вас нет, ни нас, а просто ветер над дырой воет. Что ж за дыра-то? А кто ж ее знает, что за дыра. Такая дыра, что лежит она в поле меж вами и нами, а рядом растет дерево. И если ближе подойти, то видно, что и поля-то нет, ни дерева, а только дыра есть, да словно в ней шепчется кто-то. Так-то ребятушки! Хорошо, русалочки. Стоять граду Вавилону вовеки!
А потом взгляд-вестник улетает в небо, где крошечные птички кружат над похабным колоссом, разросшимся вдоль и поперек, разжиревшим от языковой энергии и жиревшим бы и дальше, если бы не усох один огромный красный язык, высунутый из земли небу, и не раздвоился-растроился-размельчился на тысячи маленьких, позанырнувших обратно всем строителям и горожанам в их рты, чтобы понимал каждый свое, а не чужое, чтобы башня перестала жиреть и осталось бы место, чтобы летать птицам и плавать как дирижаблю одному важному на все века слову, которое они перестали различать.
– Зинаиду Николаевну позовите кто-нибудь! Зинаиду Николаевну, к ней сын пришел! – кричит подруга матери в глубину коридора, откуда несет кислятиной щей и где сидят сумасшедшие тетки, уткнувшись в телевизор, а мать там никогда не сидела, сколько б он ни приходил. Тогда от ее крика толстая девка начинает кричать басом без слов, и к ней подходят две тетки из больных и пытаются ее уломать, но та ни в какую. Потом она как-то замолкает, а к Шарманщику застенчиво подходит одетая в темное платье молодая сумасшедшая, ничем не отличная от десятка его знакомых, особенно в то время, когда он жил в доме художников, среди художников и художниц, которые выглядели не менее, а, наверное, более сумасшедшими, чем эта женщина, особенно по вечерам, когда их пьяные мужья возвращались по коммуналкам. Она просит у него сигарет, и он лезет в карман, достает пачку и в который раз пытается отдать ей все целиком, но она отнекивается и, стесняясь, достает три штуки, зажимает в кулаке и быстро отходит.
Потом в глубине коридора появляется мать, которую по бокам торжественно ведут две преданные тетки, а она всматривается вперед, все всматривается, пока не увидит его. Она, конечно, не сразу понимает, кто это, и лицо у нее какое-то время напряженное и растерянное, но потом испуг проходит и она улыбается. Поняла, что кто-то для нее хороший пришел. Он берет ее за руку, целует, прижимает к себе ее худое тельце, стараясь не задеть щекой кровоточащее крыло носа, потому что только задень и польет, и ведет ее за железную дверь, на лестничную площадку, где стоят два пластмассовых стола и несколько стульев.
– Это мы куда идем?
Там он усаживает ее за один из столов, садится напротив, лезет в сумку и достает кока-колу и шоколад, вынимает два пластмассовых белых стаканчика, разливает шипучку, разламывает плитку и раскладывает кусочками по фольге.
– Это, как это, все, все это, – говорит она и смеется, и он понимает, что она говорит, что рада, что все так вкусно и нарядно, что он позаботился и устроил настоящий праздник.
– Кушай, мама, – говорит он.
Она берет кусочек шоколадки, кладет в рот и сосет.
– У тебя все хорошо? – внезапно спрашивает она светским тоном.
– Все хорошо, мама!
Потом он видит, что она напрягается, держит ускользающую от нее паузу сколько может, ежесекундно забывая для чего, но с огромным трудом возвращая утраченную память к этой очень важной для нее вещи, потому что, если не подавать виду, как это важно и невыносимо, то судьбу можно будет заговорить, обмануть еще раз, и она еще раз поддастся и выпустит. И тогда, собрав все свое мужество, ежесекундно вместе с разъезжающимися во все стороны мыслями просыпающееся на землю, мать спрашивает.
– А когда меня заберут отсюда? – спрашивает она.
И он начинает врать, что скоро. Потом рассказывает какую-нибудь чепуху про свою подружку, мать слушает и смеется.
– И значит, все, пусть будет все хорошо! – говорит она заученно бодрым голосом, автоматически заклиная судьбу, которую заклинать ей удавалось десятилетиями, пока та не закляла свою состарившуюся дочь и не привела сюда на привязи.
– Скажите нам, русалкам-гадалкам, говорят они, подпевая, пошло ли ваше имя за вами? Пошло оно за нами, расписное, из Wrigly Spearmint сделанное, из чуда-юда, кока-колы, халвы и праздника. А вот мы забыли свои имена, говорят русалки. И мы забыли свои, – говорят строители и матросы, глядя, как отдаляется от них земля и небо. Ну и ладно, говорят русалки и, изогнувшись млечным своим телом, белой сверкнув малой грудью с сосцами-звездами, сияющий след в волне оставляя и брызги – в воздухе, уходят в изумрудную глубину, где их не увидать даже матросу со своей высокой мачты.
– Ты уже уходишь, Миша? – встревожено спрашивает она, называя его именем отчима, глядя, как Шарманщик застегивает молнию на сумке.
– Пойдем, мама, – говорит он, – я никуда не ухожу.
– Ты не уходишь?
– Нет. Пойдем, – и он вводит ее за железную дверь в коридор с полоумными тетками и, отыскав материну подружку, оставляет ее с ней. Теперь самое главное – снова дойти до железной двери, скользя слепыми предательскими глазами по обоям, номерам палат, по линолеуму пола, и не обернуться назад, потому что Шарманщик знает, что они там обе стоят посреди коридора и смотрят ему вослед. Две старухи, одна чуть повыше другой. Она все забудет через минуту, и то, что ты приходил, и то, о чем вы говорили. Ты сделал все, что мог, все. Иди. Иди, не оборачивайся. Но он знал, что обернется.
Сатир
Прежде чем Владимир Сергеевич подрался с бесами на пароходе, пострадав от этого более физически, нежели нравственно, с ним случилось много странных и смешных событий, так сказать, подготовивших этот злополучный эпизод. Конечно, я не все знаю, и часть его фантастических похождений доходит до меня лишь со слухов, из третьих рук, но некоторым из них я сама была свидетельницей, а хорошо зная этого человека и уважая его, прежде всего как друга моего мужа, я интуитивно чувствую, что действительно имеет отношение к его незаурядной, хотя и во многом преувеличенной личности, а что, скорее всего, является достоянием молвы. Поэтому в битву на пароходе, в которой участвовал наш философ с одной стороны и несколько чертей – с другой, я верю. Говорят, что он выбежал на палубу из своей каюты совершенно в диком состоянии – всклокоченный, с порванным сюртуком и сверкающими глазами. Одним словом, бесам он не дался, хотя тут же, на палубе, и повалился в глубокий обморок. Не знаю, чем он их взял, словом или делом, но нечистые твари отступили от рыцаря Пресвятой Софии, нанеся ему лишь незначительный урон. Впоследствии он рассказывал, что швырялся в них корабельным обиходом, всем, что подвернулось под руку, а также творил специальные молитвы и заклятия и злонамеренное воинство сгинуло, не выдержав обстрела. Но, судя по тому, что В. С. все же убежал из каюты, я склонна думать, что все было несколько мрачней и трагичней, чем в его передаче.

Виктор Николаевич поинтересовался, как выглядят адские твари, и В. С. выпучив глаза пропрыгал несколько шагов по зале, а потом расхохотался и перевел разговор на другую тему. Думаю, что все могло кончиться намного печальней, но, вероятно, за человека, терпящего бедствие и известного своей непреклонной верой в Создателя, вступились дружественные силы, и все закончилось, слава Богу, благополучно. Виктор Николаевич утверждает, что В. С. вполне беспомощен в быту и беззащитен перед самыми заурядными обстоятельствами, но я думаю, что это не совсем так. Другой человек на его месте давно бы пропал или сменил область деятельности. Ведь Владимир Сергеевич начал блестящую карьеру в Московском университете. Диссертация его не только вызвала большой шум, но и была отмечена старейшими профессорами как исключительно незаурядное событие в ученом мире. Перед ним были открыты все дороги. Но какая-то исконная нелюбовь к размеренной жизни, без которой так трудно создать что-либо стоящее в науке и оставить след в анналах отечественного просвещения, взяла вверх, и начались события одно другого невероятней. Владимир Сергеевич отошел от кафедры и предпочел жизнь среднюю между жизнью цыгана, дон-кихота и клоуна. Ум свой блестящий он понемногу разменивал на странные статьи, вызывающие отчасти возмущение читающей публики, отчасти почитание и отчасти удивление; профессия журналиста пришла взамен докторской кафедры, и он начал свои бесконечные поездки по всему свету, одновременно создавая невероятные проекты по переустройству жизни на земле. Он написал письмо нашему государю императору и одновременно второе, которое отослал Римскому Папе, призывая их объединить свои усилия в создании теократического государства. Говорят, что Папа, получив письмо, лишь сказал: «Это было бы так прекрасно, если бы только было возможно!»

Нет, не думаю, чтобы В. С. был так уж беззащитен и уязвим, как рассказывает о нем мой муж, человек добрый и обходительный, друзьям же преданный по-особенному. Когда-нибудь и я расскажу (и я совсем не собираюсь откладывать этого в долгий ящик) то, что знаю о Соловьеве сама, а не от людей. Я запишу подробно наши разговоры, пусть лишь для себя одной, и расскажу про все те тайны, которые он мне поверял и свидетельницей которых я отчасти являлась, а также про те противоречивые и пылкие устремления возвышенной и не всегда отдающей себе отчет в реальной жизни, но благородной души, кои так занимали его незаурядный ум в то лето, когда он снял дачу здесь же, неподалеку от нашего Знаменского, в Морщихе, чтобы, как он выразился сам, «иметь счастье видеть вас чаще, чем прежде».

Его смех… Виктор Николаевич говорит, что обсуждать его неприлично, а я считаю, что неприлично как раз смеяться смехом, от которого прислуга начинает заикаться, а прохожие на улице оглядываться. Ну что ж, ежели наградило тебя естество таким сатирическим, я бы даже сказала, паническим (от слово «пан», что по-гречески означает «все») смехом, возьми себя в руки и одолей естество. Паническим смехом смеялись боги на Олимпе, когда им показали новорожденного младенца, сына Дриопы и Гермеса, появившегося на свет лохматым и рогатым, но то, что дозволено Юпитеру, не дозволено нам. К тому же то был Сатир, исчадие чащ, преследователь нимф и бог плодородия, а не доктор философии.
Про Владимира Сергеевича ходит столько легенд и анекдотов, что некоторые из них я просила его мне разъяснить. Для того хотя бы, чтобы отличить, где правда, а где вымысел. Потому что некоторые правдивые истории из его жизни больше напоминают выдумку, в то время как при уточнении всех обстоятельств, им сопутствовавших, выясняется, что они-то и есть совершеннейшая правда, с ним происшедшая. Например, многие называют его поклонником Софии и обращают внимание на то, что все его светские увлечения так или иначе связаны как раз с теми дамами, которые носят такое имя. Некоторые его научные труды, больше похожие на фантастические истории, также посвящены этому имени и этой Личности. Я попросила В. С. объяснить мне, каким образом человек может общаться с Софией Премудростью, Вечной Женственностью. Каким образом молитва к святой Софии отличается от молитвы к Богу и разве надо отличать одно от другого. И вот что он мне ответил: «София Премудрость – это мы с Богом, как Христос есть Бог с нами. Понимаете разницу? Бог с нами, значит, он активен, а мы пассивны, мы с Богом – наоборот, Он тут пассивен, Он – тело, материя, а мы – воля, дух». Я долго размышляла над этим объяснением, но, кажется мне, ничего не поняла. То ли изложено наспех, то ли я опять сталкиваюсь с тем в нем, что для меня непонятно и непривычно. Лев Николаевич Толстой в своих письмах ко мне выражается понятней и проще. Я попросила разъяснения, и В. С. сказал мне, что София, Вечная Женственность, появляется тогда, когда наше отношение к Богу активно, а Он занимает пассивную сторону. Вот тут-то и появляется на свет его женственное качество или ипостась – София. Философ помолчал, а потом яростно, как мне показалось, добавил: «Когда вы одеваете платье, платье для вас София, прекрасная женственность, вас облегающая, а когда на вас одевают платье, то для него вы – София, позволяющая ему сиять, шуршать и виться». И тут он расхохотался своим неприятным смехом. Надо ли упоминать, что от него, как всегда, пахло скипидаром, будто из столярной лавки.


Пришла нянька, зовет к детям, с которыми сегодня нет сладу, поэтому я оставляю мои записи до завтра. А завтра я наконец-то скажу самое главное и мало кому известное о нашем знаменитом философе, и сделаю это, отплясывая вальс, а то и мазурку пером по бумаге, с удовольствием, благоговейным обмиранием и без прикрас.







