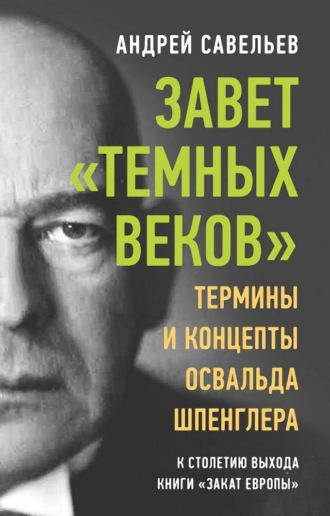
Андрей Савельев
Завет «темных веков». Термины и концепты Освальда Шпенглера
Планы реальности и познания
Поэтика или логика, факт или гештальт? Разве можно все это разделить на планы реальности? Если у природы множество языков, и человеку дано воспринимать планы реальности без перевода из одного в другой, то универсальный язык общения между людьми должен быть результатом деградации всех языков природы. И тогда в нем нет ни логики, ни поэтики.
Может ли поэт понять математика? Может. Когда математик поэтизирует свое дело и возвысился в нем до гештальтов. Это не отменит логику. Но даст чудесные картины фрактальной структуры бытия, которое обладает изощренной сложностью, а не простотой однородного континуума. Невозможного гораздо больше, чем возможного. Но возможное пронизывает пустое пространство невозможного множеством тонких нитей, по которым следует разум. Это пути посреди бескрайних пространств бессмыслицы – узкие дорожки с множеством поворотов и ветвлений, с тайными дверцами на каждом шагу.
Во времена Шпенглера казалось, что современному человеку естествознание дается легко, а проблемы возникают в понимании истории. Не прошло и столетия, когда все поменялось. История кажется понятной – по сути дела, завершенной. И прошлое оказывается застывшим, лишенным тайн. Естествознание же оказывается в тупике – практически никому не известным, непонятным и скучным предметом.
Подавляющее число считавшихся образованными в начале XX века людей не могли не иметь достаточно основательных представлений в математике, физике, химии. Теперь же, в начале XXI века все эти знания становятся уделом чудаков. Цивилизация гибнет в потоке гуманитарных иллюзий. Историческое видение девальвировалось: в нем больше нет истины и логики. Всякий волен превращать прошлое и будущее в антиутопию, всякий волен создавать собственные картины мира и упиваться ими, отвергая все то, что придумано другими. И естествознание оказывается для большинства всего лишь одной из многих выдумок. Поэтому природа исчезает из сознания и подменяется калейдоскопическими фантазиями, в которых нет целостности, да этого никто и не требует.
Расколотость сознания человека-потребителя превращает его гештальты в простые побудительные мотивы, склоняющие к потреблению товаров, но не знаний. Если «понятия суть числа», то понятия порождают гештальты совершенно другого плана – в них жизнь обретает глубины. Товар же лишен глубины – у него есть только потребительские свойства.
Впрочем, числа отличаются от понятий. Числа предполагают способы операций с ними, которые создают классы чисел. Без операций числа не имеют смысла. В то же время понятия не имеют соответствующих им однозначно определенных операций. Операции с понятиями сами по себе есть понятия, отчего мир понятий менее формализован и способен порождать как элементарные ошибки (когда происходит разрыв коммуникации по причине различия не только в правилах использования понятий, но и в понимании их значений и взаимосвязи), так и поэтику – гармония проникает в сферу рассуждений через нечетко определенные принципы мышления.
Сумасшествие имеет две формы: распада понимания элементарной логики и, наоборот, следования этим законам в пренебрежении фантастическим разнообразием жизни, где логические операции запутываются в бесчисленности взаимосвязанных объектов. Парадокс неизбежен не по причине счетной бесконечности элементов мышления (они, очевидно, конечны), а по причине неизбежно возникающих ошибок мышления. В рамках жесткой логической схемы парадокс оказывается неразрешимым.
Механицизм мышления возможен только в условиях недостаточной информированности. Теоретически посчитать можно все, но практически невозможно избежать ошибок. Особенно в связи с естественными ограничениями отдельно взятого человека и естественного различия в «прочности» казуальных связей. Но когда человек создает средства быстрого счета, он способен поставить и разрешить задачи, которые внешне кажутся не подлежащими расчету. Мир больших чисел перестает быть механистическим. Он создает жизненные образы, за которыми стоит гибкий рассудочный формализм.
В культуре понятия создают и разрывают связи между собой, что образует живую и гибкую понятийную систему. История становится аналогом природы, понятой как органическое явление. А потому язык описания сложных механических систем оказывается пригоден для выработки языка, описывающего историю. Если точнее – множество «языков», которые обсуждают историю во всех ее аспектах. Мир-как-природа и мир-как-история сливаются в единый мир человека, разделяясь лишь при поверхностном и одностороннем взгляде.
Сходство портрета с оригиналом – ремесленный уровень живописи. Он не способен конкурировать с высоким искусством, в котором создается обобщенный образ – сходство не застывшее, а живое. «Заколдованное мгновение» оказывается живым портретом эпохи и человека вообще, а не конкретного лица, позирующего портретисту. Для этого в портрете должны соединиться филигранная техника ремесла и способность передать живую физиогномику общего и частного, отраженного в конкретном лице. Портрет становится сложным символом, и тогда фотография не способна с ним конкурировать. Фотограф ловит момент символизма, живописец ловит множество моментов и соединяет их вместе.
«Гештальт и закон, подобие и понятие, символ и формула воспринимаются совершенно различными органами. В этой противоположности проявляется соотношение жизни и смерти, зачатия и разрушения. Рассудок, система, понятие, убивают, „познавая“. Они превращают познанное в застывший предмет, позволяющий измерять себя и расчленять. Созерцание одушевляет. Оно включает единичное и живое, внутренне прочувствованное единство».
Это рассуждение Шпенглера само по себе «убивает, познавая». В нем различие живой природы и живой истории застывает, прекращает взаимопроникновение. А потому уподобляется моментальному черно-белому снимку, в котором динамика будет угадываться лишь размытостью границ, а ясной будет только статика.
Становящаяся органика
Социальные науки ломает вовсе не философский сайентизм, а идеология Просвещения, которая доносила до образованных слоев относительное, исторически локальное знание как высшее торжество человеческого разума. Упрощенная картина мира нравилась тем, кто считал мудрость веков – излишним грузом. Революция сознания выбрасывала на помойку прошлое, в котором видели только мракобесие – в особенности, если речь заходила о Средневековье, которое до сих пор прочно ассоциируется с некоей «тьмой». В альтернативу Просвещение считалось «светом». Между тем, именно Просвещение, не дав широким слоям населения даже начальной образованности, отбросило прежде просвещенные слои во мрак незнания, закамуфлированного детерминированной под ньютоновскую механику картины мира. В этой картине человеческая жизнь уподоблялась работе механизма, а понимание социальных процессов запутывалось угадыванием неких непреложных законов. Эту тенденцию уловили марксисты и быстренько «открыли» закон смены политэкономических формацией, теорию прибавочной стоимости и классовую борьбу с мировой революцией. Набор примитивных идеологических клише – это все, что осталось от Маркса у марксистов. Иллюзия понимания породила «железную» уверенность в своей правоте, а с нею – и тип человека, про который в похвалу пролетарский поэт сказал: «гвозди бы делать из этих людей».
Гнет казуальности – это еще одно средство для изничтожения социальных наук. Надо искать всему причину, которая не утрачивается уже на первом, если не на втором витке гегелевской триады «тезис – антитезис – синтез». Причину в виде закона так и не нашли, но приказали всем считать, что эта причина есть – надо лишь всенародно конспектировать «основоположников». И этим безумием забили головы нескольких поколений.
Шпенглер совершенно точно сформулировал альтернативу нищете «пролетарской» философии: знание людей и познание природы несопоставимы. Но историю хотели загнать в рамки закона, и поэтому невежды и «образованцы» всех стран приветствовали большевистский террор. Он укладывался в картину мира, удобную для них. Правда, эти приветствия были восторженными только с дальней дистанции, а на расстоянии полета пули большевизм оказывался ужасен. Этого XX век так и не решился признать в полной мере. В особенности упорными в одобрении живодерского опыта оказались сумасшедшие последователи КПСС и КГБ, которые на развалинах России оккупировали властные институты.
Шпенглер указывает на совершенно очевидную невозможность отождествить становящуюся органику со ставшей механикой. Именно от этого образовались множественные и лишь слегка покрытые всемирным научно-техническим прогрессом поражения большевиков, компенсированные затратами «человеческого материала», который бросали в войны и на коммунистические стройки как дрова в топку. Пока не израсходовали русский народ.
История уникальна, в ней нет повторяемости, потому что есть случай – единичное. Из истории можно извлекать уроки, но бессмысленно пытаться ее повторить. Доказательством того, что никакого социального закона так и не удалось открыть, является бытовая мудрость: история ничему не учит. И впрямь, прошлое настолько запутывается ложной механистичностью, что извлекать из нее уроки наследники эпохи Просвещения просто не в состоянии. Они ссылаются на исторические аналогии, но это не дает им ровным счетом ничего. На основе аналогии можно принять решение, но оно не более разумно, чем любое другое. А чаще всего, менее разумно, потому что исходит из помутненного механицизмом разума. История не покоряется и не познается. Учебники просто лгут, а знатоки истории подтасовывают факты, чтобы они подходили под какое-нибудь правило, из которого, будто бы, можно настроить целеориентированную деятельность. Вместо нравственного урока получается какой-нибудь никчемный рецепт завоевания власти, который как в «верхах», так и в «низах», может сводиться к совершенно идиотским формулам: «надо учиться у большевиков» или «надо учиться у евреев».
Тупик и, собственно, конец цивилизации Шпенглер описывает просто: «чувство судьбы замерло в этих старческих проектах». Ее антипод – юношеская отвага, не скованная соображениями полезности и «эффективности» (говоря современным языком, где «драйверы прогресса» – это новояз правящих тупиц), уже становится зародышем будущего. Потому что «судьба – вечно юная», а старческий сайентизм твердит, что «нет судьбы», но есть законы общественного развития. «Но тот, чья жизнь, брызжущая избытком, простерта в грядущее, – такой человек не испытывает нужды в знании цели и пользы».
Расчет в истории и политике
Историографы подвержены предрассудкам. Еще больше предрассудков у спекулянтов историческими сюжетами: они стремятся не к пониманию истории, а к превращению ее в товар, себя же – в популярных писателей. Предрассудки продаются лучше, чем истина. Можно сказать, что истина вообще не продается, а лишь случайно оборачивается скупыми гонорарами от тех, кто принимает истину за хорошо разработанную иллюзию.
Предрассудок Шпенглера в том, что он соединяет размытые очертания процесса становления с функцией. Реальность может быть посчитана, а функция – только представлена. Либо в наглядном графике, либо в формуле, которая лишь знак – иллюзия понимания. Посчитать безмерное и описать бесформенное невозможно. Но и утверждать, что безмерное и бесформенное – это и есть жизнь, а счетное – мертво, опрометчиво. Счетное имеет качественные границы – наподобие иллюзии синематографа, когда счетное количество кадров превращается во впечатлении в непрерывное движение. И содержательная сторона этой иллюзии образует жизнь – восприятие, переживание, знание. Счет – еще не сама жизнь, но единственно возможное ее представление. Функция же – это замена одной иллюзии и на другую. Фильм о фильме. Ухищрение, замкнутое в профессиональных границах.
Шпенглер высказывает претензии к философам-современникам за их дилетантизм в области математики и приводит в пример философов прошлого, которые порождали математические миры из собственной философии. Эту претензию трудно признать, поскольку усложнение научных дисциплин естественным образом приводит и к профессиональной специализации. Что касается предметного универсализма философов прошлого, то в нем не было никакого синтеза. Просто начала науки незатейливы и величественны. Простота позволяет заниматься одновременно несколькими науками, а величественность придает этому занятию особую значимость.
Мысль Шпенглера пытается удалить понятие времени из математики. Делает он это непригодным методом. Он полагает, что время присутствует в математике через понятие производной от функции координаты f(x), продифференцированной по времени df(x)/dt. А, коль скоро обнаружились недифференцируемые функции, которые не позволяют взять производную в каждой точке (или даже ни в одной только точке), то время из математики изгнано. На это умозаключение есть множество возражений. Ведь таким же образом из математики можно изгнать и пространство – например, в турбулентном течении жидкости у каждой частички потока (по видимости) нет координаты. Значит, она не существует в нашем привычном пространстве – для нее нужен иной математический формализм и иное понимание пространства.
Мы должны вспомнить, что функция – это абстракция. В реальном мире нет никаких функций. Прикладная математика – это приближение к реальности. Оно помогает проникнуть в суть вещей, когда отклонение реальности от модели пренебрежимо малы. Конечно, невозможно сопоставить дифференцируемую функцию к пиксельному объекту. Функция в удачном случае может дорисовать его до аналитической формы, которую мы умеем исследовать разработанным математическим формализмом. Но далеко не всегда такое приближение и такой формализм можно подобрать: сильно неравновесные системы и системы, моделируемые с нарастающей ошибкой начальных координат, даже будучи умозрительными (как и недифференцируемые функции), разрушают аналитические модели, с которыми к ним пытаются подступиться. Но стоит отказаться от попытки свести все к анализу знакомых функций, и недифференцируемые функции вполне могут прийтись ко двору – как раз вместе со своими необычными свойствами.
Нет сомнений, что в турбулентном потоке каждая молекула жидкости имеет свою траекторию и конкретную координату в каждый момент времени. Просто мы, даже если сумели бы установить координаты всех молекул потока в какой-то момент времени, потеряли бы знание последующих координат за период, который определяется точностью определения изначальных координат, от которых мы ведем отсчет, и нашей способностью обрабатывать большой поток информации.
Казалось бы, разрыв меняющейся во времени реальности с математикой (способностью подсчитать), состоялся. Но здесь нас ждет реабилитация связи математики со временем, если мы представим мир пиксельным (если угодно – дискретным, квантованным). Пусть в микромире нет возможности одновременно измерить координату и скорость. Это вовсе не означает, что нет математического формализма, которые описывал бы такого рода реальность. Кванто-механический формализм чудесно подходит к результатам опытов. Но и в макромире, где сильно неравновесные системы не позволяют применять обычные аналитические методы, есть не только возможность создать новый формализм, но и вообще обойтись без понятия функции, используя численные методы. Как только мощные компьютеры получили возможность обрабатывать необходимые объемы информации, пиксельное представление пространства и времени позволило делать необходимые расчеты и строить макромодели на основе предположений о свойствах составляющих их микрочастиц.
Конечно, творчество неалгоритмируемо. Оно находится в другом плане реальности, где не действует формальная логика и где алгоритмы нечетки, а объекты расплывчаты. Но алгоритмы как ступенчатые изменения и функции как приближения многоступенчатых процессов не просто приемлемы, но являются неизбежным порядком мышления. Там, где время ощутимо, там без этого не обойтись. В том числе, и в гуманитарных науках, где отсутствие баз знаний и общего понимания истины создает бесполезные научные институты и авторитеты.
Историк-иллюзионист не станет доискиваться казуальной законности. Историку-практику, работающему в пользу политики, обращенной в прошлое, напротив, нужны примеры казуальности, которые создают не только сухой прогноз, но и интуитивное предвидение – когда в условиях недостаточности информации и множественности образцов верных и неверных решений избирается нечто, создающее жизнь – успешное или ошибочное решение, которое само становится преданием и образцом для будущих решений. Более того, историческая иллюзия всегда имитирует казуальность. Иначе она никого не убеждает, а становится всего лишь фантазией – успешной лишь в меру литературного таланта автора.
Шпенглер предлагает считать изъянами элементы становления в становящейся реальности. И только этими изъянами, как он считает, ограничены научные возможности освоения реальности. Эту мысль можно уподобить отделению облака от выпавшего из него дождя и определение дождя как изъяна. Или же ненаблюдаемой пси-функции от наблюдаемого квантового события. В действительности, наука захватывает и то, и другое. Она объясняет ставшее становящимся, подбирая последнему свой знак или образ и даже создавая для них целый мир закономерностей.
Можно с восторгом принять мысль Шпенглера о том, что созерцаемая история – это форма мира, излучаемая бодрствованием наблюдателя, в которой господствует становление. И тогда следует признать, что образ становления у каждого наблюдателя может быть только свой собственный, и в нем действительность ставшего дорисовывается воображением. Реальность достраивается до ставшей полноты (в динамике и статике) – в зависимости от способностей к пророчеству, откровению, фантазии или в зависимости от научных знаний, фиксирующих внимание на элементах ставшего, которые есть зародыши будущего в настоящем.
Если количество застывшего в картине мира «сокращается до минимума и картина едва ли не вся идентифицируется с чистым становлением, тогда созерцание переходит в переживание, допускающее лишь способы художественного изложения». И тогда ясно, что история творится в «нематематической» действительности.
Так ли это? Можно согласиться с мыслью Шпенглера, если отнести ее к множеству веков, когда не глазомер, а быстрота и натиск решали все дело. Но современная действительность знает расчет по такому множеству параметров, что оно не мыслится уже как дискретное. Оно создает иллюзию становящегося, будучи математической моделью. Молодой задор «нематематической» политики разбивается о расчет – продуманные и просчитанные стратегии, в которых ведется учет материальных и иллюзорных (денежных и мифологических) ресурсов, психологии действующих персонажей с их «нематематической» непосредственностью. Успех теперь – чаще продукт расчета, а не вдохновения. Правда, это касается только большой политики и ее скрытых механизмов, которые склоняют множество энтузиастов быть по-юношески непредсказуемыми и рисковать – так, как просчитают скрытые от глаз центры планирования реальности.
«Бесчисленные гештальты, всплывающие в нескончаемом изобилии, исчезающие, выделяющиеся, вновь расплывающиеся, какой-то искрящийся тысячей красок и свечений хаос словно бы ничем не стесняемых случайностей – такова на первый взгляд картина мировой истории, простирающейся как целое перед внутренним взором. Но взгляд, проникающий глубже в суть вещей, выделяет из этого произвола чистые формы, которые, плотно окутанные и лишь вынужденно раскрывающие себя, лежат в основе всякого человеческого становления».
Программирование поведения людей предполагает показывать отдельным лицам или массам различные элементы ставшего – более или менее подробные. И тогда впечатление будет предсказуемым, как минимум – описанным с некоей вероятностью. Набор программирующих воздействий сведет ошибку к пренебрежимым величинам. Но только в одном случае: если демиург сам знает, в каком мире он живет, и какой мир пытается построить. Отсутствие ясности в этой вполне «математической» реальности означает, что картина мира для огромного числа людей, чье поведение запрограммировано, может внезапно быть сломана – в результате какой-нибудь мелкой, но принципиальной ошибки. И тогда реальность станет совершенно незнакомой, подобной какой-нибудь антиутопии.
История знает такие переломы, и теперь мы, забыв о возможном крахе хорошо налаженной цивилизации, идем к самому большому перелому – закату мировой истории денег, ставших фетишем «математического» программирования реальности. Научность политики оказалась подмененной монетизацией, и это – фатальная ошибка политического программирования, которую нам дано прочувствовать в ближайшем будущем.
«Природу нужно трактовать научно, об истории нужно писать стихи» – этот тезис совершенно верен на уровне поверхностном и подходит лишь для прошедшей истории, в которой стихи значили больше, чем рассуждение. Без рассуждения дыхание истории кажется проявлением организма – существа, которое не понять рассудком, а можно лишь почувствовать. Но под программирующим воздействием все это безрассудство оказывается уже не шагом к подвигу, а карнавалом, в котором каждый упивается своей иллюзией и в водовороте этих иллюзий создает еще одну иллюзию – единства в безрассудстве, которое, якобы, творит новую реальность.







