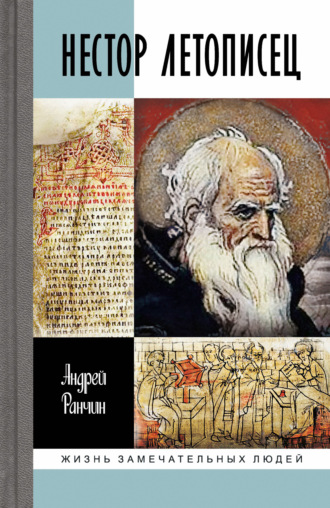
Андрей Ранчин
Нестор Летописец
Глава вторая. «…Слезами, пощеньемь, молитвою, бдѣньемь». Печерская обитель
«…Слезами, пощеньемь, молитвою, бдѣньемь» – этими словами в статье «Повести временных лет» под 6559 (1051) годом описывается создание Киево-Печерского монастыря, противопоставляемого другим русским обителям: «Много ведь монастырей царями и боярами и богачами устроено, но не такие они, как те, которые поставлены слезами, постом, молитвою, бессонными ночами»[88]. Действительно, Киево-Печерский монастырь в отличие от других русских монастырей середины XI века был основан не князем, не покровителем-ктитором, который брал на себя материальное обеспечение обители, а самими иноками{28}. Уроженец южнорусского города Любеча монах Антоний, принявший постриг в Греции, на Афоне, вернулся на Русь и поселился в пещере на днепровском берегу, где до этого совершал в уединении молитвы священник Иларион, по решению Ярослава Мудрого в 1051 году возведенный в сан киевского митрополита. От слова «пещера» (в древнерусской огласовке «печера») и происходит название монастыря. Вскоре Антоний стал известен своими аскетическими подвигами, и вокруг него собралась братия числом в двенадцать человек. Год, когда Антоний поселился в Иларионовой пещере, точно неизвестен. Иногда считают, что это было в 1051 году или вскоре после того, на что косвенным образом указывает «Повесть временных лет». Однако древнее Житие Антония{29}, написанное, видимо, в конце 1080-х – начале 1090-х годов[89], указывает, правда, тоже не прямо, что Антоний стал наставником монашеской общины намного раньше – примерно в 1031-м или 1032–1033 годах[90]. Но эти сведения сомнительны[91].
По прошению Антония киевский правитель Изяслав Ярославич подарил монастырю землю, тем самым содействовав умножению братии. Являясь духовным наставником монашеской общины, Антоний не был игуменом: по желанию братии настоятелем был избран инок Варлаам, а после его перевода по решению князя Изяслава Ярославича в другую обитель – Феодосий.
Главой Печерской обители Феодосий стал, видимо, около 1062 года. При нем число черноризцев достигло ста – по тем временам это было больше, чем даже в византийских монастырях. При Варлааме и Феодосии монастырь выходит из пещер на поверхность земли и разрастается. В 1069 году Антоний (вероятно, осуждавший князя Изяслава за вероломное пленение полоцкого властителя Всеслава и, по-видимому, признавший власть Всеслава над Киевом, когда того возвели на киевский престол восставшие горожане[92]) был вынужден покинуть обитель и поселился в Чернигове при тамошнем князе Святославе, Изяславовом брате. В Печерский монастырь он вернулся только четыре года спустя, в 1073 году, когда Святослав изгнал старшего брата из Киева. Приход Святослава к власти осудил Феодосий, обличавший нового киевского властителя как узурпатора и долгое время не желавший поминать его на церковных службах. В том же году, видимо успев принять участие в закладке нового монастырского храма, грандиозной церкви Успения Богородицы, Антоний умер. Последние дни и недели жизни он провел в жестокой аскезе, удалившись в затвор – пещеру без дверей, лишь с небольшим оконцем, в которой пребывал в суровом посте и безмолвии.
Стараниями Феодосия в обители был введен византийский свод монастырских правил – Студийский устав в редакции константинопольского патриарха Алексея (XI век)[93]. Студийский устав предписывал строгое общежитие, или общинножитие. В отличие от отдельного проживания монахов, сходящихся вместе лишь на церковные службы, – келиотства, или особножития, – и неполного общежития, допускавшего частную собственность иноков, общежитие строилось на обязательном участии всех черноризцев в монастырских работах; персональная собственность строжайше воспрещалась.
С именами Антония и Феодосия связаны две монашеские традиции, сформировавшиеся в обители. Первая восходила к отшельничеству египетских, сирийских и афонских подвижников. Одним из первых и самых известных представителей этой традиции был египетский монах Антоний Великий (III–IV века) – тезка печерянина; для нее отличительны крайние формы аскезы, вплоть до замуровывания себя в пещере. Вторая, выразителем которой был Феодосий, а основателями и образцами – палестинские подвижники Евфимий Великий, Савва Освященный и другие, – утверждала общежитие, духовное окормление, заботу о пребывающих в миру и чуралась ригоризма затворников. По характеристике историка русской святости Г. П. Федотова, это были «два потока духовной жизни: один – пещерный, аскетико-героический, другой – надземный, смиренно-послушный социально-каритативный»[94], то есть посвященный милосердным делам и исполненный жертвенной любви. Победу сначала одержало Феодосиево направление: «Для духовного направления Феодосия основное значение имеет тот факт, что именно он положил конец пещерному монастырю, основанному Антонием: если игумен Варлаам вынес на поверхность земли первую деревянную церковь, то Феодосий поставил кельи над пещерой. Пещера отныне осталась для Антония и немногих затворников. Мотивом Феодосия указывается: “видя место скорбно суше и тесно”. Теснота пещеры легко могла быть раздвинута. Но скорбность ее, очевидно, не соответствовала Феодосиеву идеалу общежития. Едва поставив монастырь над землей, он посылает в Константинополь за Студийским уставом. Безмолвие и созерцание он умаляет ради трудовой и братской жизни. Верный палестинскому духу, он стремится к некой гармонизации деятельной и молитвенной жизни»[95].
Ко времени прихода Нестора в монастыре возобладало направление Феодосия. Сказания Киево-Печерского патерика, одно из которых приписывается Нестору, запечатлели настороженное отношение к радикальной форме ухода из мира – к затвору, в котором инока подстерегают соблазн гордыни и бесовские искушения.
Однако строгие правила общежития будущий Летописец уже не застал: они не выдержали испытания временем, оказались не по силам печерским монахам. Е. Е. Голубинский констатировал: «Вскоре после преп. Феодосия истинное общежитие исчезло в ‹…› Печерском монастыре»[96], приведя длинную череду примеров из Печерского патерика: монахи не хотят хоронить Афанасия Затворника, пренебрегая своим долгом, – за последнюю заботу об усопшем некому заплатить (6-е слово, написанное епископом Симоном); монах Еразм был богат, а потом обнищал и оказался у братии в пренебрежении (7-е слово Симона); Алимпий брал плату за свои иконы, а Марк, если ему такую плату давали, – за копание могил (10-е и 8-е слова, принадлежащие перу монаха Поликарпа){30}; богатым монахом был Василий (9-е слово Поликарпа)[97]. И это далеко не все случаи такого рода. Вывод историка категоричен, но справедлив: «В Печерском монастыре после преп. Феодосия осталась только небольшая частица введенного им истинного общинножития»[98]. Во времена Нестора исполнение настоятелем «черного» – тяжкого и считавшегося унизительным – труда на поварне было чем-то невозможным, из ряда вон выходящим. Однако Феодосий не гнушался этой работы, и Нестор в его Житии посчитал это проявлением особого смирения святого. Между тем это было простым следованием Студийскому уставу, предписывавшему всем инокам исполнять общие дела по монастырю[99]. Впрочем, в таком поведении Феодосия был и педагогический урок. Как заметил известный историк древнерусских культуры и нравов Б. А. Романов, «прививать многочисленной братии навыки монастырского коллективизма приходилось, конечно, личным примером. Например, общая трапеза требовала организации обслуживания кухни водой и дровами в больших количествах, и здесь Феодосий первым брался за ведро и топор, чтобы вызвать свободных монахов на то же»[100].
Е. Е. Голубинский предположил, что и забота о библиотеке, присущая Феодосию{31}, не была свойственна его преемникам. Однако его утверждение «Как бы то ни было, однако необходимо думать, что ‹…› в Печерском монастыре нарочитые заботы о библиотеке четиих{32} книг прекратились тотчас или вскоре после смерти преп. Феодосия ‹…›»[101] ничем не подтверждается. Но Нестор, конечно же, читал книги из монастырской библиотеки и был благодарен покойному игумену, стараниями которого было создано книгохранилище. Из свидетельства Киево-Печерского патерика – памятника о монахах Феодосиевой обители – следует, что здесь хранились греческие книги, привезенные иконописцами из Византии еще в конце 1070-х или в 1080-х годах[102]. Наш герой эти манускрипты также мог читать.
Если монастырь и потерял многое из обретенного благодаря Феодосию, его авторитет ко времени прихода Летописца оставался необычайно высок. Одна из первых на Руси и первая общежительная, Печерская обитель хранила свет кротости, смирения, мудрости и нравственной чистоты одного из ее основателей. В отличие от других обителей, в Печерской не требовали от приходящих денежного вклада. Таким неимущим был сам Антоний, без денег ступил на монастырский порог и Феодосий, хотя он и был выходцем из богатой семьи. «Эту традицию приема в монастырь неимущих, как мы знаем, Феодосий свято охранял, как охраняли последующие за ним игумены»[103]. Феодосий был нелицеприятен и тверд в отношениях с князьями, на слабости и грехи которых прямо указывал. Он, рискуя своим благополучием и положением, обличал князя Святослава за изгнание брата, писал ему укорительные послания, приводившие правителя в ярость. Князья и бояре были его собеседниками. Он проникался заботами и трудностями простых людей, стремясь им помочь, облегчить их беды. «Ко времени вступления Нестора в число братьев Киево-Печерского монастыря, последний уже пережил героическое время своего возникновения и устроения, представляя собой к моменту смерти своего знаменитого игумена Феодосия бесспорно во многих отношениях исключительное явление тогдашней русской жизни» – так оценил Печерскую обитель М. Д. Присёлков[104].
Стефан, в годы игуменства которого Нестор стал монахом Печерской обители, был прежде «начальником хора церковного»; умирающий Феодосий благословил его возглавить монастырь «по общему согласию» иноков, которые «порешили, что быть у них игуменом Стефану»[105]. (Принять игуменом монаха Иакова, предложенного самим Феодосием, братия отказалась: возроптала, заявив, что он пришлец, принял постриг в другом монастыре и потому недостоин быть настоятелем.) Почему умирающий игумен пожелал видеть своим преемником не Стефана, которого «Повесть временных лет» называет Феодосиевым учеником[106], а пришлеца Иакова, неизвестно[107]. Вероятно, он считал, что игуменство затруднительно для Стефана по личным свойствам. Стефан, очевидно, отличался большой ученостью: ему и монаху Никону, сменившему его в роли игумена, Феодосий после произнесенных им поучений поручал «прочесть что-либо из книг в наставление братии»[108]. Как заметил историк Я. Н. Щапов о должности начальника церковного хора, именовавшегося в Византии доместиком, а на Руси демественником: «Это была ответственная должность, требовавшая несомненных способностей и большой профессиональной подготовки»[109].
Нестор относился к Стефану с любовью и почтением и видел в нем образец благочестия: не случайно автор Жития Феодосия назвал Стефана «преподобным отцом нашим», а в другом месте – «преподобным игуменом нашим»; «преподобным» он называет Стефана еще раз в заключении Жития, умалчивая о том, что Феодосий первоначально хотел видеть своим преемником другого черноризца[110]. Слово «преподобный» означало «благочестивый», «непорочный», но также было определением монаха, прославленного как святой[111]. Нестор, вероятно, учитывает все эти значения, хотя церковное прославление Стефана состоялось спустя много веков после кончины автора Жития. Кроме создателей Печерской обители Феодосия и Антония, которых книжник так называет многократно, этот эпитет он лишь однажды относит к еще двум печерянам – Никону и Ефрему. Нестор писал Житие Феодосия уже после вынужденного оставления Стефаном Печерской обители, но сохранил о нем благодарную память. Именование бывшего настоятеля «отцом нашим» и «игуменом нашим» создает эффект присутствия, впечатление, что Стефан по-прежнему возглавляет монастырь. Конечно, употребляя слово «наш», автор Жития выражает привязанность и любовь к своему бывшему наставнику, воздает ему за симпатию и добро. Для сравнения – упоминания о преемнике Стефана Никоне хотя и исполнены почтительности, но лишены такой душевности, такого света. «Отцом нашим» Нестор также неизменно называет самого Феодосия, но обычно добавляя эпитет «великий». Эти именования благоговейно-этикетные, но не окрашенные личным чувством: преподобного Феодосия книжник не знал.
М. Д. Присёлков предположил, что в обители еще при Антонии и Феодосии образовались два течения – аскетическая партия «простецов», антониевская по происхождению, чуравшаяся политики, и «группа тех братьев монастыря, кто или закладывали широкое общерусское значение обители ‹…› или, по крайней мере, умели ценить и дорожить этой ролью монастыря в русской жизни». Ко второй группе иноков якобы принадлежали Никон, Варлаам, Ефрем и Феодосий. Феодосий примирял при жизни две эти тенденции. Отвержение Иакова, которого Феодосий хотел видеть своим преемником в роли настоятеля, как считал М. Д. Присёлков, объяснялось позицией первой из двух монашеских групп: «Трудно сомневаться, что здесь впервые заговорила группа ригористов и простецов. Она, конечно, понимала необходимость иметь в игуменстве ученого и образованного брата, но желала быть уверенной в сохранности прежде всего аскетических традиций Феодосия и всей строгости устава. Стефан был ученый инок, но, как всегда, близкий Феодосию и в монашеском смысле росший под его рукою, прежде всего аскет, на глазах братии выполняющий суровую школу великого Феодосия. С ним можно быть уверенным в сохранении аскетических традиций и строгости устава»[112].
Нестор, по мнению историка, поддержал черноризцев – приверженцев учености, образованности, выступавших за общественную миссию монастыря: «Как человека образованного, с широким церковным и политическим горизонтом, Нестора, очевидно, манила эта общерусская забота монастыря, будя желание приложить к ней и свой труд, и свой бесспорный литературный талант. Естественно, что Нестор, столь выделенный и обласканный игуменом Стефаном, примкнул к группе ученых и образованных братьев, а скоро, в разыгравшихся дальнейших столкновениях этой группы с группой ригористов, решительно и даже резко разошелся с этой последней, когда, опираясь на нее ‹…› была проведена попытка перемены или смягчения церковно-политического положения, занимаемого до сих пор Печерским монастырем»[113]. Группа иноков, стремившихся развивать общественную деятельность монастыря и влиять на княжескую политику, в том числе в церковной области, по мнению М. Д. Присёлкова, была настроена патриотически и антигречески, противостоя стесняющему влиянию митрополитов-византийцев, поставляемых на киевскую кафедру Константинопольской патриархией[114].
Гипотеза историка получила довольно широкое распространение как в науке, так и в околонаучных популярных сочинениях публицистического толка. Однако она практически не опирается на факты, а является плодом неосторожной фантазии. Ключевое для ее автора положение о противостоянии митрополии и «грекофилов», с одной стороны, и патриотов – с другой, совершенно недоказуемо и объясняется не историческими данными, а своеобразной «грекофобией» исследователя. Можно предполагать, что Константинополь должен был ревниво относиться к возрастающей роли местной церковной среды, относиться несколько высокомерно к рождающейся русской христианской культуре: греки признавали за своей империей монополию на обладание истинным христианством, а в иноземцах-неофитах обычно продолжали видеть «варваров». Но от этой истины до борьбы «партий» в обществе и, прежде всего, в церковной среде – «дистанции огромного размера»… Так что пытаться определить место Нестора в этом химерическом противостоянии – занятие сомнительное и даже бессмысленное. Что же касается антагонизма «простецов» и приверженцев образованности, озабоченных общественным значением обители, то расхождение ценностей и монашеских практик, видимо, действительно было. Логично, что Нестор должен был поддерживать вторую из этих партий. Однако серьезность этого разделения неочевидна. Факты скорее свидетельствуют против глубины конфликта. Показательны противоречия в трактовке ситуации М. Д. Присёлковым. Он одновременно считал Стефана кандидатом от «простецов» и одним из самых образованных печерских иноков и духовным наставником Нестора, от «простецов» далекого.
Почему Стефан был вынужден оставить не только игуменство, но и Печерскую обитель, не очень ясно. М. Д. Присёлков связывал это событие с политической историей. В 1076 году князь Святослав Ярославич, за три года до этого изгнавший из Киева старшего брата Изяслава, скончался от какой-то неудачной хирургической операции («от рѣзанья желве»[115]). К 1076 году, когда к верховной власти пришел после смерти Святослава Всеволод Ярославич, «нужно отнести ‹…› какие-то неловкие или недальновидные шаги – нам ближе неясные – со стороны игумена Печерского монастыря Стефана, которыми он подготовил свое скорое падение. Через полгода вернулся на киевский стол Изяслав ‹…› имя которого неуклонно возносилось в монастырских службах, как старейшего князя. Отражением этой смены князей на киевском столе происходит в Печерском монастыре смена игуменов. Братия изгоняет Стефана и избирает на игуменское кресло великого Никона, старейшего брата, которого так почитал игумен Феодосий»[116]. Историк связывал потерю игуменства Стефаном с его приверженностью Всеволоду: в 1077 году из Польши возвратился старший Ярославич, Изяслав, младший брат Всеволод уступил ему киевский престол. Стефан поплатился как раз за близость к Всеволоду: «То обстоятельство, что игумен Стефан лишен был братией Печерского монастыря не только игуменства, но даже права пребывания в монастыре, с одной стороны, и то, с другой стороны, что он не занял игуменского кресла ни в одном из киевских монастырей, хотя, как мы знаем, за это время освобождалось не одно игуменское место, а построил себе особый монастырь на Клове, в котором пробыл до 1091 г., когда Всеволод, тогда уже киевский князь, поставил его на епископскую кафедру во Владимир, – показывает, что Стефан был извержен из монастыря не за личные промахи и упущения, а за какие-то ошибки в церковно-политическом руководстве Печерским монастырем. Иначе невозможно понять обилие средств в руках монаха общинножитного монастыря, хотя и игумена, достаточных для устроения нового монастыря, как и позднее призвание на епископию. Вероятнее думать, что игумен Стефан, не учтя возможности возвращения в Киев Изяслава, сблизился со Всеволодом, оказавшимся временным политическим владельцем, и тем затруднил положение монастыря при Изяславе, что и сказалось не только в удалении Стефана из обители, но и в невозможности для него, до торжества Всеволода, продвинуться в церковно-иерархических назначениях»[117].
Однако это объяснение основано на одних догадках и вызывает сомнения. Никон, сменивший Стефана в роли печерского игумена, действительно признавал законность власти старшего Ярославича. В 1073 году, когда Святослав при поддержке Всеволода захватил власть в Киеве, лишив Изяслава престола, Никон не только осудил узурпацию власти средним братом (это сделал и игумен Феодосий), но и категорически не признал произошедшее, покинул монастырь, отправившись в далекую Тмутаракань{33}, откуда вернулся только после смерти Святослава. Об этом сообщают и Житие Феодосия, и Киево-Печерский патерик. Но никаких сведений об отношении Стефана к разгоревшейся борьбе за власть и к Всеволоду нет. Если этот печерский настоятель был таким ярым приверженцем Всеволода, то почему младший Ярославич, вновь вокняжившийся в Киеве в 1078 году, после гибели Изяслава, не сместил Изяславова сторонника Никона и не вернул Стефану игуменство, а в волынские епископы возвел последнего только спустя тринадцать лет, в 1091 году? В действительности выбор игумена зависел в конечном счете не от князя, а от монастырской братии, а возведение в епископы совершал митрополит, а не киевский властитель, хотя и в первом, и во втором случае мнение правителя могло приниматься во внимание. Однако интерпретация М. Д. Присёлковым смены игуменов в Печерском монастыре уязвима даже в рамках его логики.
Печерский монастырь со времен Антония и Феодосия, державших себя независимо с князьями, не раз шел наперекор светской власти. Можно ли предполагать, что в 1078 году братия послушно приняла требование Изяслава, даже если тот действительно пожелал, чтобы Стефан ушел, а на его место был избран лояльный Никон? А ведь монахи не просто лишили Стефана настоятельства, но и изгнали его из обители! (Нестор в Житии Феодосия прямо пишет об «изъгнании еже из манастыря преподобьнааго нашего игумена Стефана»[118].) Потеря Стефаном игуменства была связана, видимо, с какими-то распрями в самом монастыре и острым недовольством части иноков. Одно из мнений о причинах совершившегося таково: «Как полагают исследователи, Никон был сторонником нестяжательной политики монастыря, строгой аскетической жизни монахов. Стефан, напротив, занимался приумножением монастырских богатств, активной строительной и торгово-хозяйственной деятельностью. В 1077 г. на киевский стол вернулся Изяслав Ярославич, поддерживавший Никона, что предрешило изгнание Стефана»[119]. Однако могла ли монахов раздражать по крайней мере «строительная деятельность» Стефана, который продолжил в этом отношении деяния Феодосия, завершив возведение грандиозной Успенской церкви? Допустимо и иное предположение: возможно, братия сочла управление Стефана чрезмерно крутым, деспотическим или была недовольна требовательностью в исполнении монастырского устава.
Но, так или иначе, это противостояние не нашло, по-видимому, никакого отражения в сочинениях Нестора: он принял совершившееся как данность, как проявление воли Божией, сохранил теплую и благодарную память о Стефане и почтительно отзывался о Никоне. Единственное возможное исключение – упоминание о лености Никона, не пришедшего на утреннюю службу, в сказании о Матфее Прозорливом, включенном в «Повесть временных лет» под 1074 годом и приписываемом печерской традицией нашему автору. Однако, возможно, и этот текст ему не принадлежит, о чем будет сказано ниже.
Вообще, автору Жития Феодосия Печерского, очевидно, были свойственны неприятие ссор и вражды, примиряющий взгляд на распри и стремление их изгладить. Не случайно «Чтение о Борисе и Глебе» он посвятил святым братьям, полным любви друг к другу и исповедующим покорность даже к собственному убийце, а в Житии Феодосия нарисовал образ кроткого игумена, сурово не осуждавшего оступившихся, согрешивших и с ровной, спокойной любовью относившегося ко всем насельникам обители. При этом, в отличие от «Повести временных лет», Нестор в Житии Феодосия ни словом не упоминает о том, что умирающий игумен хотел видеть своим преемником не Стефана, а другого монаха, и уступил выбору братии с явным неудовольствием. Вот как книжник повествует об этом:
«Братия же была в великой скорби и печали из-за его болезни. А потом он три дня не мог ни слова сказать, ни взглядом повести, так что многие уже подумали, что он умер, и мало кто мог заметить, что еще не покинула его душа. После этих трех дней встал он и обратился ко всей собравшейся братии: “Братья мои и отцы! Знаю уже, что истекло время жизни моей, как объявил мне о том Господь во время поста, когда был я в пещере, и настал час покинуть этот свет. Вы же решите между собой, кого поставить вместо меня игуменом”. Услышав это, опечалились братья и заплакали горько, потом, выйдя на двор, стали совещаться и по общему согласию порешили, что быть игуменом у них Стефану, начальнику хора церковного.
На другой день блаженный отец наш Феодосий, снова призвав к себе всю братию, спросил: “Ну, чада, решили вы, кто же достоин стать вашим игуменом?” Они же все отвечали, что Стефан достоин принять после него игуменство. И блаженный, призвав к себе Стефана и благословив, поставил его вместо себя игуменом. А братию долго поучал, слушаться его веля ‹…›. И снова, призвав к себе одного Стефана, поучал его, как пасти святое то стадо, и тот уже больше не отлучался от него и смиренно прислуживал ему, ибо был он уже тяжело болен»[120].
Нестор таким образом представил Стефана, им, очевидно, особенно любимого и почитаемого, как непосредственного преемника Феодосия, который согласился с выбором печерян не под их давлением, но по собственному разумению[121]. А об изгнании Стефана печерскими монахами автор Жития Феодосия упоминает, не приводя причин и тем самым внушая читателям мысль, что лишение Стефана игуменства – произвол и бесчинство.
Покидая мир, становясь монахом, человек избирал особенный жизненный путь. Иоанн Синайский, или Лествичник (VI–VII века), в своем сочинении «Лествица{34}, возносящая на небо», авторитетном духовном руководстве для черноризцев, перевод которого был известен на Руси, так описывал этот путь: «Будем внимать себе, чтобы, думая идти узким и тесным путем, в самом деле не блуждать по пространному и широкому. Узкий путь будет тебе показан утеснением чрева, всенощным стоянием, умеренным питьем воды, скудостью хлеба, чистительным питьем бесчестия, принятием укоризн, осмеяний, ругательств, отсечением своей воли, терпением оскорблений, безропотным перенесением презрения и тяготы досаждений; когда будешь обижен – терпеть мужественно; когда на тебя клевещут – не негодовать; когда уничижают – не гневаться; когда осуждают – смиряться. Блаженны ходящие стезями показанного здесь пути, яко тех есть Царство Небесное (Мф. 5, 3–12)»[122].
Монашество было отречением от мира, от светской жизни – от жизни плотской. Не случайно монахов называли живыми мертвецами и ангельским чином: пребывая во плоти, они должны были жить не по законам плоти. Отрезание волос в обряде принятия монашеского сана было символом отсечения мирских помыслов и страстей. По словам Иоанна Лествичника, становящийся монахом обязан совершить три отречения: «Первое есть отречение от всех вещей, и человеков, и родителей; второе есть отречение своей воли; а третье – отвержение тщеславия, которое следует за послушанием»[123].
Реальная монашеская жизнь была далека от этого идеала. Даже из ее описания в Киево-Печерском патерике – памятнике, призванном возвеличить подвиги печерских иноков, – видно, сколь часто черноризцами владели греховные думы и чувства. Но любой, кто искренне отрекался от мира, не мог не воспринимать монашеские заповеди и заветы глубоко, отзываясь всем сердцем. Нестор, вскоре проявивший себя как религиозный автор, конечно, именно так переживал иноческий идеал. А уход из мира – как рубеж начала нового бытия, смерти в жизни прежней и рождения в жизнь новую.
Как и в любом монастыре, жизнь в Печерской обители определялась малым и большим кругами времени – суточным богослужением и чередой праздников и постов церковного года. Студийский устав (Устав патриарха Алексия), принятый в монастыре[124], предписывал инокам носить одежду из грубой шерсти, запрещал личное имущество. Не дозволялось иметь сосуды для пищи в кельях, вкушать ее следовало сообща в особом помещении – трапезнице. От Пасхи до Филипповского, или Рождественского, поста – два раза в день, на обед и ужин. Обед – варево с зеленью и сочиво – густое кушанье из бобов. На ужине перед повечерницей – сочиво и пшено, оставшееся от обеда. В Великий пост есть предписывалось один раз в день, в первую неделю – сухоядение (хлеб и плоды). В трапезницу монахи шли после того, как слышали звук троекратного ударения в било – доску из дерева или металла. Впереди шествовал священник, отправлявший в тот день храмовую службу, за ним игумен. Пели 142-й псалом: «Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое». Ели в молчании. Обед начинался с молитвы, завершался тоже молитвой. После удара большой ложкой в блюдо братья клали ложки и возглашали вслед за игуменом: «Господи Иисусе Христе, Бог наш, помилуй нас».
Церковные службы были общими – на них собиралась вся братия, кроме болящих. В игуменство Стефана высоко над землей вознесся заложенный Феодосием Успенский храм, ставший главной церковью монастыря. «Успенский собор Печерской лавры (1073–1077 гг.) явился самым грандиозным памятником архитектуры второй половины XI в. Диаметр его купола почти на метр превысил размер главы Киевской Софии. Отсюда общий характер форм – мощных, структурных, глубоко и сильно расчлененных» – так пишет о храме искусствовед А. И. Комеч[125]. Чувство восхи́щенности над повседневностью, над земной суетой на богослужении создавалось и пением хора, и теплым трепетом огоньков свечей, и строгими отрешенными ликами на фресках. (Собор был расписан уже при Никоне византийскими мастерами.) Внутренний объем собора отчетливо выражал идею, символ креста – основания веры. «В целом интерьер храма отличался особенной пространственностью. Отсутствие сложности, характерной для пятинефных{35} соборов, привело к цельности и ясности грандиозной структуры. Концепция осеняющего и охватывающего крестово-купольного завершения оказалась здесь выявленной с еще не существовавшей на Руси отчетливостью. В этом, как и в развитии строительной техники, сказываются продолжающиеся и укрепляющиеся связи Киева и Константинополя ‹…› Уцелевшие фрагменты собора и сейчас своим величием вызывают ассоциации с монументальными сооружениями той традиции, которая берет свое начало в архитектуре античного Рима»[126].
В свободное от богослужения и работ по монастырю время черноризцы должны были сидеть в кельях по одному и молиться предписанным образом. Ходить из кельи в келью возбранялось. Кельями во время Нестора служили уже не пещеры, отрытые в мягком, но плотном приднепровском грунте, а построенные над землей здания. Пещеры же, где недавно подвизались Антоний, Феодосий, Стефан, превратились в монастырский некрополь. Монахи могли проводить время за чтением духовных книг – Нестор, конечно, не преминул этим воспользоваться, за книжной работой – подготовкой пергамента, переписыванием рукописей, изготовлением переплетов. Неизвестно, когда Нестор приступил к писанию своих сочинений. Над «Чтением о Борисе и Глебе» он мог начать трудиться еще при Стефане, Житие Феодосия если не начал, то завершил, наверное, вскоре после кончины сменившего его Никона. Но трудиться он должен был по благословению настоятеля. Писал, как было принято, склонившись, положив книгу на колени – столики-пюпитры как будто бы еще не использовались. Часто, очевидно, в темное время, поля древнерусских рукописей пестрят жалобами писцов на слабый, неверный свет свечи-ночника. Скрип пера, да проговариваемые вслух слова, ложащиеся на пергаментный лист, да творимая время от времени вслух молитва нарушали тишину в келье[127].





