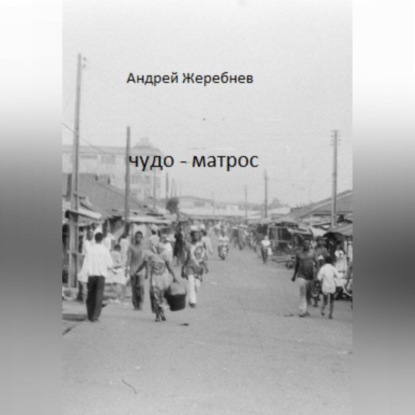Полная версия:
Андрей Жеребнев Как небо серого не оставило
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Андрей Жеребнев
Как небо серого не оставило
Талантливый человек
Обедали, как частенько случается у строителей, на обрезке гипсокартона, установленном на стопке мешков с клеем. Однако не приземленный разговор зашел о таланте.
– На детях талантливых людей природа отдыхает, как правило! – не мог не вставить свои пять копеек я.
И тогда мой товарищ – электрик Павел (Паха), – оторвавшись от стеклянной банки со своим обедом, участливо обернулся в мою сторону.
– Это ж какой, получается, у тебя батя талантливый, просто жуть берет!
Эх, Паха, Паха, ешь давай, тщательно пережевывая: из правил, умные люди говорят, тоже возможны исключения…
Охранник и бродяга
Памяти моего любимого писателя, незабвенного О'Генри
В ту зиму трудился Эндрю охранником в круглосуточном продовольственном магазине между морскими своими рейсами: никакие деньги молодому семейству, вот-вот готовившемуся к пополнению, лишними не были. Хоть и не его совсем это была работенка. Прямо сказать, собачья: стереги, чтобы какой-нибудь вороватый покупатель или иная продавщица чего-нибудь да не утянули.
«Припахивали», конечно, ушлые продавщицы и на подсобную работенку: пиво в холодильник вовремя загружать, чего-нибудь к прилавку из склада принести. Но что были эти смешные своим весом ящики для трюмного матроса, играючи перебрасывавшего могучими руками до тридцати тонн замороженной рыбы за вахту!
И повадился к ним в магазин захаживать полуночный бомж. Покупал каждый раз полбулки серого хлеба и бутылку самого дешевого пива, да и убирался восвояси. Но в один поздний морозный вечер, совершив обычные свои покупки, он накрепко прилип к витрине, дотошно изучая ценники на красную рыбу и черную икру.
– Андрей, выведи ты его! – не выдержала наконец одна из продавщиц, место которой было скорее в базарных рядах. – Он нам весь народ распугает.
Да, вид бродяга имел живописный. А уж запах!.. «Зори Парижа»! Однако чуткий Эндрю колебался: выставить человека, хотя бы и без определенного места жительства, вот так, как собачонку, на мороз только из-за того, что отличается он убогостью и ветхостью одежды и употребляет одеколон совсем не для бритья?.. И все же охранник двинулся к бедолаге.
Вмиг оценив ситуацию, тот завел проникновенно:
– Вот есть у Джека Лондона рассказ…
Богатое и, признаться, сострадательное воображение Эндрю тотчас начало рисовать образ просвещенного, чуткого и ранимого эстета, знатока литературы, так нещадно побитого слепой и жестокой судьбой.
– …как вот такого же вида человека впустили в дорогой ресторан и обслужили по высшему разряду.
Эндрю устыдился своему невежеству – среди хранимых памятью произведений великого писателя ничего подобного не находилось. Вот ведь какой начитанный стоял перед ним человек!
– А он всего лишь, – видя, что страж местных порядков сдается, победно воздел заскорузлый палец бомж, – хотел в тюрьму попасть, чтоб перезимовать.
– Э-э, дядя! – воскликнул тут Эндрю возмущенно. – Да ведь это и не рассказ Джека Лондона, а новелла О'Генри «Фараон и хорал». И в дорогой ресторан, кстати говоря, бродягу того не только не пустили, но и уложили буквально небритым фейсом на мостовую: мордой об асфальт – по-нашему… Так что давай, дядька, от греха!..
И на законных уже основаниях (плохое знание иностранной литературы, плюс искажение ее в корыстных целях) вытеснил постоянного клиента за дверь: интеллектом, получилось.
А из магазина знатный многим мореходам Эндрю (в береговой жизни, впрочем, Андрей) вскоре уволился – в море было пора. И через месяц, привычно и весело перебрасывая в трюме тяжеленные коробки с рыбой, вдохновенно бурчал себе под нос: «Уж лучше в трюме свою шкуру поморозить, чем самому последней шкурою прослыть: людей за то, что мало смыслят в прозе, в ночи за дверь, на холод лютый выводить… Как НИИ пеняли бы его за попустительство: без повода – людей!.. Людей без места жительства!»
И гул морозильных вентиляторов отзывался в такт.
Датский шок
В магазинчике женской одежды, что располагался в тихих улочках Копенгагена, шла примерка. Вокруг пожилой дамы, стоявшей, словно статуя на постаменте, на круглом невысоком деревянном примерочном подиуме, сновали, приседали, корпели с булавками в руках три продавщицы. Подобрать, подогнать, продать женскую юбку добропорядочной покупательнице – целое дело, требующее и времени, и сил, и терпения, главным образом. Все должно сойтись идеально и безупречно. А не то в следующий раз требовательная матрона предпочтет для покупок другой магазин.
И в эту самую минуту внутрь стремглав ворвались три молодых женщины – высоких, статных, красивых, неудержимых. Кивнув на бегу продавщицам, женщины в темпе принялись откладывать на прилавок одежду с вешалок:
– Так, и еще вот это возьми!..
– Тоже посмотри: какая прелесть!
– И это берем!
Ошеломленные продавщицы, равно, как и возмущенная, забытая ими покупательница, невольно застыли с открытыми ртами.
В пять минут навалив гору одежды на прилавок, неведомые чужеземки потребовали расчета. А расплатившись не глядя, принялись спешно совать и утрамбовывать модные бренды в большие пакеты и хозяйственные сумки. Скоро и умело завершив занятие, шустрячки помахали на прощание ручкой и исчезли – так же стремительно, как появились, бесшабашно оставив при том за покупки сумму недельной, дай Бог, выручки магазинчика и вконец сбитых с толка датчанок.
Откуда последним было знать, что три лихих покупательницы – это пассажирки новой паромной линии, что пролегла с другой стороны Балтийского моря. Три официантки самого крутого в далеком отсюда городе ресторана (а у одной еще и муж в нем музыкант – вообще золотое дно!), что спешат воспользоваться возможностью прибарахлиться, затовариться в европейской столице – спасибо предзакатной Перестройке!
Эх, чопорная Европа: не понять тебе все же русского разудалого размаха!
Европеец несостоявшийся
Эту кофейную стекляшечку, что располагалась в угловом закутке продуктового маркета, в полной мере уютной назвать было никак нельзя: проходной, собственно, двор. Но кофе здесь был отменный. Да и по-современному фешенебельно все, демократично, чисто, быстрое обслуживание – в общем, вполне себе по-европейски! Новые, не затертые еще пуфы и диваны, музыка ненавязчивая и фотографии этого европейского города почти вековой давности. Девизы пекарские надо всем: «Настоящий хлеб делается только вручную», «Сегодняшний хлеб всегда печется только сегодня».
А еще «замануха» – до одиннадцати утра завтрак: булочка к маленькому стакану кофе или какао почти даром.
Насчет «хлеба сегодня» Хомутов мог бы и поспорить – его хлебам пышным, что на судне он на славу выпекал, девять часов требовалось, чтоб только остыть. На здешний же завтрак он почти никогда не поспевал. Как это: «Люблю я утренний кофе в обед». А что, мог себе позволить так поздно в давно наступивший день входить вразвалочку: в отгулах он нынче за целый год морских рейсов накопились! Само собой с легкой руки да указующего перста супруги накопилось за этот год и по квартире кой-каких ремонтных дел и доделок: какая же нормальная жена праздного мужа долго терпеть будет! Вот по пути в строительный магазин (у хорошего мастера вечно ведь чего-то для работы не хватает!) и стал Хомутов в эту кофейню заворачивать: от суеты, за большим капучино, на четверть часа отрешиться да сил на невеликие свои свершения набраться… Мазню шпаклевочную да сверление отсрочить.
Повадился! Как какой-нибудь европеец. Как француз добропорядочный!
Дождавшись у стеклянной витрины, заполненной сладостями и выпечкой, пока кофейный аппарат отшипит ему кофе в фирменный бумазейный стакан (было, правда, пару раз, что он, только за заказ рассчитавшись, тут же хапал чужой, что добрые люди дожидались), Хомутов брал с отдельной «посудной» стойки три пакетика сахара (в самый раз на большой-то стакан!) и деревянную палочку из самого детства: мороженое такими ели. Именно палочку: ей удобней было со стенок пенку собирать – самый смак! Памятуя, конечно, при этом загадочную, как настоящая француженка, Амели из одноименного фильма: «Сломать сахарную корочку чайной ложкой».
Место он себе определил у самых стеклянных дверей на улицу, на краешке длинного пуфа, за маленьким столиком. Без затей: он только кофе свое выпьет и на выход. Чтоб, значит, не дарить напрасных надежд девицам напротив, не столько налегающих на свой кофе с пирожными, сколько наседающих на бедные свои айфоны-гаджеты.
С оптимизмом у Хомутова было все в порядке в его-то годы!..
Поэтому, не затевая бесполезной стрельбы глазами, стилизованному европейцу оставалось изучать бравые пекарские лозунги, разглядывать архивные репродукции во всю стену (жена-историк говорила как-то Хомутову, что в те годы этот город по праву считался одним из самых чистых, а может, и самым чистым в Европе) да скашивать по времени глаза в сторону витрины с продавцами.
Впрочем, на продавцах внимание задерживать было тоже предосудительно. Ибо, меняя друг друга через день, были юные похожи, как близнецы. Как брат и сестра. Но сказать наверняка, кто из них трудился у кассового и кофейного аппарата нынче, наш кофеман наверняка никогда не брался: одинаково стриженые почти под «ноль» головы под заломленным поварским колпаком, серебряные сережки – две, но в одном только ухе, отсутствие груди и бицепсов. И витиеватые татуировки на запястьях: тоже вроде одни и те же змеи-драконы!.. Поди, тут разберись, хоть и по-европейски нынче вполне! Да и какое твое дело – допивай кофе и отваливай!
Но как-то вместо кого-то из этих двоих Хомутов увидал у кассы дородную светловолосую девушку, тоже очень молодую и очень, виделось, добрую. Ее ясно-синие глаза глядели на посетителей открыто и радушно. Настоящая русская красавица, словно сошедшая с полотен Кустодиева.
Хомутов тогда лишь хмыкнул про себя: текучка! Вот молодежь – никак работать не заставишь! А и хозяева, наверное, не лучше – не платят, конечно! Да, в общем, все они!..
Здешний кофе очень бодрил!
И вот в один пасмурный февральский день, что был для Хомутова так же сер, как снег по обочинам дорог, прибрел завсегдатай в кофейню, как обычно. Сразу как-то не пофартило: очередь из трех человек была впереди. И двигалась медленно. В причине Хомутов скоро разобрался: на маленькой кухне пекарни, что наполовину видна была через дверной проем, собралась маленькая компания взрослых и детей. Верно, виделось по комплекциям, родственников нашей красавицы. Наверное, у кого-то из деток был день рождения – так Хомутов определил. Поэтому девушка в колпаке отвлекалась, поминутно заходя на кухню, отчего так вяло и двигалось у стойки дело.
Хомутова уже сразу профессионально покоробило: посторонним на кухне не место! Он с судового камбуза выпроваживал и праздношатающихся, и просящих без лишних стеснений. А тут – у всех на виду!
Подошла, наконец, его очередь… И только он открыл рот, чтоб выпросить, наконец, свой большой капучино, как красавица со сражающей простотой душевно заглянула в его глаза:
– Вы не подождете пару минут?
Видно, как раз пришло время ребятенку на кухне свечи на торте задуть, а взрослым шампанским бахнуть.
– Ну вот, еще и подождать! – недовольно пробурчал Хомутов то ли себе, то ли очереди приличной, за ним уже собравшейся. И вышел тотчас сквозь стеклянные двери… Сам себя уже через дюжину шагов коря: зачем праздник людям испортил, скотина?!
И больше он в той кофейне не появлялся. Стыдно потому что за свою черствость было! Сколько кофе тут перепил, а так и не проникся духом… этой… как его?.. Толерантности! Вот! Так и не стал по духу европейцем!
И долго еще, хоть путь его постоянно пролегал мимо стеклянных стен, огибал Хомутов кофейню козьими тропами… Ордынец!
Сейчас, правда, вернулся потихоньку: давно уж другие люди за стойкой заправляют. Но Хомутов больше никогда здесь не вякнет: добрее надо к людям быть, если по-русски.
Блондинка, что выше ростом
Салатного цвета маршрутка подъезжала к брусчатому пятачку остановки, красиво выложенному уже после прокладки нового в этом районе асфальта. Кажется, она была «пустой». В том смысле, что «сидячие» места навскидку проглядывались. Потому Хомутов, оттерев солидной неприступностью прыткого студентика, тактично пропустил вперед женщину средних лет (галантно предоставив, впрочем, ей право дверцу микроавтобуса и распахнуть).
Места действительно были. Даже боковые, справа. «К окошку! К око-ошку!» Сколько лет было Хомутову? По возрасту вполне достаточно, чтоб места уже никому особо в общественном транспорте не уступать. По виду – пацан пацаном! Оттого, верно, что он себя таковым до сих пор и чувствовал.
Вот и сейчас, вмиг усевшись на «боковушке» почти в конце автобусика и портфель свой деловой на колени пристроив, он пытливым глазом тотчас узрел, фифу, сидящую на пару рядов сидений ближе к выходу. Ничего себе! Красивая. Это было видно и в профиль. Блондинка. Рыжеватая, впрочем, и не пойми – натуральная или нет. Его, Хомутова, примерно, лет, но, угадывалось, немного его повыше. Хорошо одетая, надменная и неприступная.
Но не все то было предметом ревностного внимания Хомутова: женщин и девушек красивых в этом городе – только голову успевай поворачивать! Блондинка занимала двойное сидение, положив на дальнее свою достаточно, впрочем, объемную сумку, сама же вольготно расположившись на ближнем.
Вот взяли манеру! Повадились: сядут на первое сидение и второе уже оказывается заблокированным. А может, тут кто-то: «К окошку! К окошку»! Жена, правда, поясняла Хомутову, что так многие дамочки предпочитают знакомиться. Но совсем другое тут, по его разумению, конечно было! Ущемленное самолюбие угадывалось. Как так! До́лжно им, таким респектабельным, на личном авто, а то и с личным шофером ездить, а они тут в общественном транспорте с простолюдинами трясутся! Так еще это быдло и рядом с собой на сидение пускать?..
Он-то никогда не стеснялся потревожить: «Вы… позволите? Спасибо!» Но только если других свободных мест в обозримой видимости не было. А уж коль имелись, то «седай», где получится – какое там окошко: и впрямь за ловеласа примут!
Но сейчас-то сидел Хомутов на отдельном сидении у самого окна, и окно то было чистым, и ехали они быстро!.. Но нет, закипало внутри! Чуть даже и досадно было, что места, кроме как рядом с блондинкой, свободные были. А так бы навис выжидательно: «Бизнес-класс превращается!.. Превращается бизнес-класс!.. Да нет, я понимаю, вы свой джип-самолет только на сегодня в автоцентр на текущий техосмотр поставили».
Да ладно, сиди уж: все равно ведь ничего подобного промямлить не дерзнул бы!
Микроавтобус между тем весело выбрался из района новостроек и подъехал вскоре к вокзалу с непременными тут ожидающими пассажирами. И Хомутов, только увидав устремившихся к двери, тут же из мысленной осады блондинки ушел в глухую свою оборону. Хватит на всех посадочных мест или не хватит? Нет, а чего он должен подскакивать? Это микроавтобус-такси (аж на четыре рубля больше, чем в автобусе, он платит!) – здесь ездить стоя вообще запрещено! По закону… По правилам!.. дорожного движения!.. Российской Федерации!
Конечно, сам-то он эти правила с законами нарушал – случалось… Но уж точно никого в таких случаях с законно насиженного места не выкуривал!
И пока он жевал сиюминутные свои мыслишки, светловолосая женщина в белой куртке готовно встала и подхватила со второго сидения свою сумку, высвобождая места двум пожилым людям. Без малейшего промедления и хотя бы тени недовольства на действительно красивом – Хомутов это разглядел теперь отчетливо – лице.
Она и вправду оказалась выше его. На голову…
Вкус абсолютного счастья
Он стоял и ждал свою любимую с букетом желтых роз в руках. «Ты хочешь меня встретить с цветами, как принц? Ну, хорошо, я не возражаю. Только без бурных пока эмоций. Пока не отстанем: там полный самолет наших будет».
С букетом этим он долго соображал у цветочного аппарата, заплатив тому уже купюру, а остановки и открытия так и не дождавшись. Слава Богу, больше дураков платить такие деньги пока не было. Наконец, «вкурив тему», провинциал, нажал нужную кнопку – крутящийся куб послушно остановился, и он вынул те самые розы желтого цвета, что так любила она.
Среди множества встречающих он был с цветами не один. Радость встречи витала над узеньким выходом, находящимся под перекрестным обзором многих десятков глаз. И счастье уже топило его теплотой до такой степени, что слабели ноги. Отчего поминутно приходилось их «менять».
Он уже чувствовал ее, чувствовал, что она здесь; он уже твердо знал, что увидит через несколько минут опять – после разлуки в несколько каких-то недель, что стали целой свершившейся вечностью.
При всех счастливых моментах, которые все же нередко дарила ему судьба, такого в жизни еще не было.
Он заступил на вахту у входа за двадцать минут до времени ее прилета – мало ли чего? Но стоял уже почти час. А из непрозрачных стеклянных дверей все выходили и выходили пассажиры внутренних рейсов. Спасибо тем дверям – шли люди нескончаемой вереницей, а не толпой, потерять в которой он мог бы ее вполне.
«Ты не волнуйся, никуда я без тебя из аэропорта не уеду. Отстанем только чуть в сторонке от группы нашей. Не волнуйся!.. Волноваться со мной начнешь».
О чем бы это она?
И вот, наконец, она появилась – стремительно, как всегда. В черном, ладно облегающем ее фигуру пальто, и черной вязаной шапочке. Смущенная, конечно, внутри и оттого внешне надменная и даже, могло показаться, недовольная чем-то.
– Надо будет только сейчас сумку эту распаковать – видишь, как лентой обмотали!
И уже на эскалаторе, еще таясь случайных глаз, он касался губами ее плеч и головы: «Я тебя люблю… Я люблю тебя». И тот запах и вкус ее пальто и шапочки были вкусом абсолютного счастья.
Господи, но ведь больше для счастья ничего ему в жизни не надо!
Настоящая женщина
Позвонил во второй половине дня ей на работу – не вставая с дивана. Вспомнилось о чем-то, проняло, в горле запершило чуть не до слезы.
– Алло, что случилось там у тебя?
– Да ничего, – добавил в голос баритона я. – Просто хотел сказать, что я тебя люблю, и скучаю… Жду твоего прихода.
– Ой, как радостно-то слышать, какой ты у меня!..
Выслушивая заслуженное, я уже намеревался за пылким телефонным прощанием закончить разговор.
– Слушай, а ты там супчику к моему приходу не сваришь?
– Э-э…
– Да, там только курицу из морозилки достать – в микроволновке разморозить! Все остальное есть: морковка с луком в корзине, картошка под раковиной. И капусту не забудь!
А и вправду – все праздничные выходные обещал сварить щи из квашеной капусты, чтоб не пропала: «Мужик сказал – мужик сделал»!
– Спасибо, что позвонил, целую нежно!
Першило в горле теперь от перца, и на слезу пробило, когда лук репчатый чистил и резал кубиком…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.