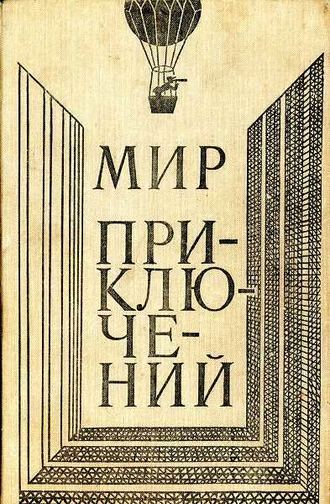
Андрей Балабуха
Майский день
V
Только этого мне и не хватало, подумал Аракелов. Только этого… Но – чего? Что могло случиться и что случилось там, внизу? Связи с патрульниками не было. Все, чем мы располагаем пока, – два подводных взрыва с интервалом в четыре минуты. Два взрыва в том самом районе, где должны были находиться субмарины. Так что пока еще ничего не известно. Может быть, пройдет еще полчаса, и субмарины всплывут, и свяжутся по радио с Гайотидой или с нами, и доложат об обнаружении «Дип Вью». Да, подумал Аракелов, может быть. Но он знал, что быть этого не может. Просто потому, что там, внизу, вероятность благоприятности всегда меньше половины. Просто потому, что если там что-то происходит, то происходит самое худшее из возможного. И чутьем опытного батиандра Аракелов понимал, что патрульники уже никогда не выйдут на связь. Это были не эмоции. Это было знание, пусть даже знание интуитивное.
Но взрывы, взрывы? При чем здесь взрывы? Это нужно было понять прежде всего. Нужно было думать, думать, думать. Так же, как думают сейчас наверху, на мостике и в пультовой, так же, как ломают сейчас голову на Гайотиде-Вест.
Аракелов положил руки на клавиши телетайпа.
«Вас понял. Когда выйдем в точку?»
«Через двадцать минут».
«Следующая связь через двадцать минут. Если не будет новых данных. Конец».
«Вас понял».
Аракелов отошел от телетайпа и опустился на диван.
Взрывы, взрывы… Какие еще сюрпризы преподнесла на этот раз пучина? Сюрпризы – это в ее характере. Сволочном ее характере. Это только для тех, кто плавает по поверхности или погружается в батискафе или субмарине, море – однородная среда с повышающимся пропорционально глубине давлением. Для того чтобы понять характер пучины, надо стать батиандром, надо войти в нее, слиться с ней, но не отождествляя себя с этой массивной, тяжелой, холодной и бесконечно чуждой средой, а противопоставляясь ей. Стать духом пучин, оставаясь человеком, – только так можно познать характер моря.
Но… какого же характера этот новый фокус? Что могло погубить две субмарины?
Патрульные субмарины Аракелов прекрасно знал. Мощные, надежно защищенные одноместные корабли, оснащенные турбинами Вальтера, маленькие я верткие, способные проникнуть в любую расселину, в любой подводный каньон в пределах своего горизонта. А горизонт у них не бедный – полторы тысячи метров вниз. До сих пор они считались практически абсолютно надежными. За последние десять лет было всего три случая их гибели, причем две лодки просто-напросто выбросило на берег цунами, а третью по собственной глупости загубил сопляк стажер. Мелкие аварии – другое дело. Мелкие аварии бывали. И всегда объяснялись либо техническими причинами, либо неумелыми, действиями водителей. И то и другое возможно всегда. Но гибель двух лодок сразу? У двух лодок не может быть двух одинаковых дефектов. Два водителя не могут ошибиться одинаково, по шаблону. Во всяком случае, вероятность этого исчезающе мала. И считаться с ней, пока существуют более вероятные объяснения, не стоит.
Значит, поищем причину вовне. А может быть, рано все же искать причину? Вдруг взрывы эти не имели никакого отношения к субмаринам? Вдруг через какие-нибудь пятнадцать-двадцать минут они восстанут из мертвых и заговорят со своей базой или с нами? Заговорят, всплыв на поверхность или выйдя в эфир через буйковые радиогидроакустические ретрансляторы? Это было бы прекрасно, подумал Аракелов. Это было бы просто замечательно. И даже не потому только, что два водителя, два здоровых и веселых парня с Гайотиды-Вест оказались бы живыми тогда, когда он мысленно уже похоронил их. Но и потому еще, что операция по спасению «Дип Вью» снова стала бы заурядной. Тогда как сейчас… А что, собственно, сейчас, после гибели субмарин?
Только то, что, если погибли две, погибнет и третья. О себе Аракелов пока не думал, о себе думать было рано – выходить ему предстояло еще не сейчас.
Он встал, подошел к телетайпу.
«Связь с Гайотидой-Вест. Срочно».
«Вас понял».
Аракелов поднял глаза на табло часов. Цифры секунд менялись томительно медленно, как отснятые на рапиде. Наконец пультовая доложила:
«Гайотида-Вест на связи».
«Что предпринято для поиска и спасения погибших субмарин?»
Аракелов знал, что официально субмарины еще не считаются погибшими или даже пропавшими без вести: рано. В конце концов, эти взрывы не аргумент. Но он прекрасно знал и другое: Зададаев, который сейчас сидит на связи, найдет нужную формулировку для запроса. Ему же, Аракелову, искать формулировки сейчас было некогда.
«В квадрат поиска направляется два звена патрульных субмарин из смежных квадратов».
«Срочно остановить их. Дать общий вызов через все буйковые радиогидроретрансляторы».
«Зачем?»
«Там, где погибли две…»
«Погибли?»
«Уверен».
«Понял». Зададаев не первый год работал с духами и верил их чутью не меньше, чем приборам.
«Где погибли две, погибнет третья».
«Гипотеза. Но риск слишком велик».
«Вас понял».
«Где бы они ни находились, пусть всплывают на поверхность и возвращаются на Гайотиду. Или ложатся в дрейф. Конец».
Аракелов посмотрел на часы. Итак, у Кулиджа кислородного ресурса остается на пять часов. Пять часов с минутами, которые не делают погоды. А у него, Аракелова, остается часа три. Часа три на то, чтобы понять, что же происходит там, внизу. Когда эти три часа кончатся, он в любом случае пойдет вниз. Это первая заповедь всех, кто ходит вниз: для спасения человека должно быть сделано все. Даже бессмысленное уже. Не только живого, но и мертвого нельзя оставлять его там. Потому что тогда не пойдет вниз другой. Только этот неписаный закон дает людям уверенность. И нарушить его Аракелов никогда не решился бы. Через три часа он пойдет вниз, даже если его ждет судьба двух погибших субмарин. Через три часа, потому что не меньше часа ему понадобится на саму операцию, а на всякий случай нужно взять двойной запас времени. Но эти три часа, которыми он еще волен распоряжаться, должны быть использованы до конца. А это значит – думать, думать, думать…
Аракелов оперся руками на станину телетайпа и так и замер, согнувшись, словно стараясь прочесть на остановившейся мертвой ленте что-то очень и очень важное. Внезапно лента тронулась.
«Внимание. Сейчас дадим изображение».
«Понял. Жду».
Аракелов поднял голову к экрану, выступавшему из стены над пультом телетайпа. Изображение уже появилось: в бледном свете прожекторов медленно уползало назад дно, покрытое похожим на мелкий белый песок глобигериновым илом. Там и сям извивались пяти– и восьмилучевые офиуры, а среди разбросанных по дну морских огурцов медленно ползали похожие на улиток гастроподы. Колония губок напоминала клумбу тюльпанов; они на добрый метр тянулись вверх и мягко покачивались из стороны в сторону. А рядом, наполовину уйдя в ил, лежали два неправильной формы куска металла. Первый мог быть чем угодно или остатком чего угодно. Но второй… Теперь гибель по крайней мере одной из патрульных субмарин стала фактом. Патрульник борт шестнадцатый… Аракелов на миг склонил голову, а когда снова поднял ее, то металлических обломков на экране уже не было – только ил, редкие кругляши полиметаллических конкреций да раскоряченные звезды офиур…
Патрульники погибли. Обломков второго Аракелов не видел, но интуитивная уверенность переросла теперь в абсолютную. И он – единственный батиандр. Единственный. Почему он вдруг подумал об этом? Нет, это был не страх. Страх он узнал бы. Страх – штука привычная, и со страхом он умел не считаться. Это была ответственность. Единственный – значит выручить Кулиджа должен он. Только он. А для этого он должен уцелеть.
Он вызвал Зададаева.
«Что с японцем?»
«В четырех часах хода. На него не рассчитывай».
«Что с патрульниками Гайотиды?»
«Всплыли и дрейфуют. Изображение мы транслировали и на Гайотиду».
«Вас понял».
Аракелов подумал с полминуты, потом решился.
«Мне нужна „рыбка“».
«Рыбкой» именовали в быту второй глубоководный аппарат «Руслана». Настоящее его название состояло из семи букв и четырех цифр, причем буквы шли в такой последовательности, что произнести больше трех подряд не сумел еще никто. Зато на рыбу он действительно был похож: четырехметровая серебристая сигара аппарата сплющивалась с боков, рули направления и глубины напоминали плавники, хотя и непропорционально маленькие для такой туши, а спаренные объективы стереоскопической телекамеры довершали сходство – этакие немигающие бездонно-глупые рыбьи глаза. Обычно «рыбка» тащилась за «Русланом» на буксире, выдерживая заданную глубину, но иногда ее спускали с привязи, и она плавала на свободе, повинуясь только приказам собственного недоразвитого – истинно рыбьего – электронного мозга.
Именно это и было нужно теперь Аракелову.
«Вас понял», – ответил Зададаев.
«Заглубите ее на шесть сотен. Потом спиралью радиусом порядка километра – вниз до девяти. Анализы – стандартный набор. Акустический контакт – непрерывный. Жду. Конец».
«Понял, – отстучал Зададаев. – Добро».
Изображение на экране медленно смещалось – «Руслан» отрабатывал на самом малом ходу. В блеклом эллипсе электрического света проплывало дно. Фиксация: ерунда, какая-то старая канистра. Рядом с ней – бутылка. Дальше… Фиксация: еще один металлический обломок… Дальше…
Пять минут… Десять… Пятнадцать… «Рыбка» уже заглубилась на шестьсот метров и сейчас начала описывать первую циркуляцию – битком набитая электроникой торпеда, оставляющая за собой цепочку пузырьков отработанного кислорода.
Двадцать минут… Двадцать пять… Время, время, время! У Кулиджа осталось всего двести пятьдесят пять минут. Следовательно, у Аракелова – сто тридцать пять. А потом – вниз.
Только бы «рыбка» прошла!
Лента в окошке телетайпа дернулась и поползла.
«Нету „рыбки“, Саша. – Всего второй раз за три года совместной работы Зададаев назвал его по имени. – Взорвалась. На втором витке».
«Понял».
На самом деле Аракелов ничего не понимал. Что происходит? Что там за чертовщина? Но понять можно было одним-единственным способом – думать. Думать. И еще раз думать.
А что думает сейчас в своем стеклянном пузыре Кулидж? Что думают наверху, в пультовой, Зададаев и ребята? И что думают на Гайотиде-Вест?
VI
В тринадцать ноль-ноль пришел сменщик, и в тринадцать пятнадцать Захаров, сдав дежурство, закрыл за собой дверь диспетчерской. От затылка поднималась и растекалась по черепу тупая боль. В ушах резкими аритмичными толчками отдавался ток крови. Пожалуй, давно уже его не прихватывало так крепко.
Захаров постоял несколько минут, потом осторожно пошел по коридору, следя за тем, чтобы шаги получались ровными и размеренными: так было легче. Свернув за угол, он оказался у дверей, ведущих на террасу. Услужливая пневматика распахнула стеклянные створки, и он вышел наружу, на прохладный ветерок, от которого стало легче дышать. Он сел на деревянную скамью и достал из внутреннего кармана плоскую коробочку. Стараясь не делать резких движений, Захаров вынул из нее две ампулы, взяв их в левую руку, убрал коробку обратно, потом приставил ампулы присосками к шее – сразу под обрезом волос. Через минуту ампулы отпали, как насытившиеся пиявки. Теперь оставалось только посидеть с четверть часа, пока скажется действие лекарства. Захаров расслабился и стал ждать.
Скамейка купалась в тени – солнце стояло на юге, и башня Гайотиды закрывала его. Широкая полоса тени, отбрасываемой башней, падала на воду и на понтоны волновой электростанции.
Мимо прошла группа туристов, человек десять – двенадцать. Судя по нескольким долетевшим до него словам, это были испанцы. Впрочем, подумал Захаров, мало ли где говорят по-испански… Ему и самому случалось водить по Гайотиде туристские группы, и он назубок знал весь набор восторгов и цифр, который обрушивается на головы охочих до экзотики туристов. Гайотида – восьмое (девятое, десятое – смотря на чей счет) чудо света. Гайотида – самая крупная международная стройка. Стройка века. Ура, ура, ура! Впрочем, если отбросить иронию, это и в самом деле грандиозно – бетонная башня диаметром в двести с лишним метров, основанием упершаяся в плоскую макушку гайота почти на километровой глубине, а вершиной поднявшаяся на полсотни метров над уровнем океана. Гигантский промышленно-научный комплекс, создать который удалось лишь совместными усилиями более чем десятка стран. Собственно, Гайотида – это название собирательное. Так называется целый искусственный архипелаг из четырех однотипных станций-башен, удаленных на полтораста – двести миль друг от друга. Каждая из них имеет собственное наименование: Гайотида-Вест, Гайотида-Норд и так далее.
Несколько десятков лет назад, вскоре после открытия Хессом гайотов, появилась гипотеза о существовавшей некогда в Тихом океане великой суше – Гайотиде, от которой до наших дней только и дошли гайоты да жалкие островки Маркус и Уэйк. Кто его знает, была ли такая земля. Слишком уж их много, этих гипотетических Атлантид, Пасифид, Микронезид и прочих «ид». Но Гайотида была построена, хотя до сих пор многие не уверены, что создание ее оправдается хотя бы в отдаленном будущем.
А экономика – это все. И потому, кроме донных плантаций и комбинатов по добыче из воды редкоземельных элементов, кроме волновых и гелиоэлектростанций, сделавших Гайотиду энергетически автономной, кроме лабораторий, мастерских и эллингов Океанского патруля, здесь появились туристские отели и искусственные пляжи, бары и магазины сувениров, потому что туристов тянет на свежатинку, а с собой они приносят валюту, и не считаться с этим, увы, нельзя.
Группа давно уже прошла, а Захаров все еще сидел, расслабившись, глядя прямо перед собой, пока не почувствовал наконец, что боль начала спадать, а потом ушла совсем, оставив только легкую тошноту и тяжесть в голове. Тогда Захаров встал и, войдя внутрь, подошел к ближайшему телефону. Разговор был коротким. Потом скоростной лифт за каких-нибудь полторы минуты вознес его на четырнадцатый этаж. Здесь были кинозалы, дансинги и бары.
«Коралловый грот» – излюбленное место туристов – изнутри был отделан настоящим кораллом. Сам бар находился как бы в огромном стеклянном пузыре, за стенками которого в ярком свете хитроумно запрятанных ламп шныряли между ветвями полипов пестрые коралловые рыбки.
«Черная шутка» – так называлась когда-то бригантина одного из известнейших пиратов, де Сото. Удивительно, как живуча эта флибустьерская романтика! Разлапистые адмиралтейские якоря, пушки и горки чугунных ядер, грубо сколоченные столы и бочонки вместо стульев, официанты в красных платках с пистолетами за поясом и обязательной серьгой в ухе – с каким восторгом клюют на это до сих пор!
Но те, кто работает на Гайотиде, не бывают здесь. Может быть, сперва… А потом – потом идут в «Барни-бар».
Когда-то Барни был одним из лучших фрогменов – боевых пловцов американского военного флота. Потом он завел себе бар где-то на Восточном побережье, а при первой же возможности перебрался сюда. Он сразу понял, что среди всей этой экзотики нормальным людям нужен самый обычный бар, обычная стойка, обычные столы и кресла. И не просчитался.
Захаров вошел в бар. Здесь было прохладно – кондиционеры работали на полную мощность – и почти пусто. У стойки сидел Аршакуни и негромко беседовал о чем-то с Барни. Захаров поздоровался с ними.
– Что стряслось, Матвей? – спросил Аршакуни.
До чего же трудно говорить! Горло сжало, и слова приходилось проталкивать – так бывает при хорошем гипертоническом кризе.
– Джулио, – сказал Захаров. – Джулио делла Пене и Чеслав Когоутек. Погибли. Полтора часа назад. – Последние слова он произнес по-английски, чтобы Барни понял тоже.
Аршакуни встал.
– Я не знал, – сказал он. – Я был в ремонтном… Как?
– Взорвались.
– Почему?
– Не знаю. И никто пока не знает.
Барни поставил на стойку стаканы и бутылку. В прозрачной жидкости купалась мохнатая зеленая ветвь. Барни плеснул водку в стаканы, бросил туда же лед.
– Джулио любил граппу. Выпейте за него.
– И ты, – сказал Захаров.
– Я при исполнении.
– И ты! – приказал Захаров.
На какое-то мгновение оба вернулись в прошлое – грозный вице-адмирал и старшина. Барни поставил на стойку третий стакан, налил.
– Есть, сэр, – с выработанным долгими годами флотской службы автоматизмом ответил он.
– Если бы они умерли на земле, – медленно проговорил Аршакуни, – я сказал бы: «Да будет земля им пухом». Но они погибли в море, и я не знаю, что сказать.
– Ничего, – сказал Захаров. – Ничего не говори, Карэн. Потому что нужного ты все равно не скажешь.
– Возьмите так, – сказал Аршакуни, зажав стакан в кулаке. – И чокнемся. Нет, не стеклом – пальцами. Так пьют у нас в Армении за помин души.
Они выпили. Граппа была холодной, но внутри от нее сразу же все согрелось, и Захаров почувствовал, как растаяла какая-то льдинка, застрявшая в горле и мешавшая говорить. И в этом ощущении трех соприкоснувшихся на мгновение рук тоже было что-то хорошее и настоящее.
– Джулио любил граппу, – снова сказал Барни.
– Он был итальянцем, – ответил Аршакуни.
– Нет. Смотрите. – Барни повертел бутылку в луче света. – Видите?
Жидкость струилась, обтекая зеленые мохнатые стебельки, и они качались, извивались, словно водоросли.
– И в этом для него было море. Он просто очень любил море. Хорошо, что он остался там.
Да, Джулио, подумал Захаров, помнишь, как не хотел ты ложиться в фамильный склеп на Капмо Санто? Будь ты сейчас с нами, Джулио, ты согласился бы с Барни. Ты выпил бы с нами – за то же. Если бы ты был с нами… Если бы не я сам послал тебя туда! «Славную работенку я сосватал тебе, Джулио? С тебя бутылка, адмирал! Отведи душу!» Ты не отвел, ты отдал ее, Джулио…
Барни налил по второй.
– Выпейте, адмирал. Вам сейчас надо выпить.
Захаров знал, что пить ему нельзя, но все-таки Барни был прав, и они с Аршакуни молча выпили.
– Почему те, кто погибает, самые лучшие? Сколько нас было и есть, и прекрасные люди, но те, кто погиб, – лучшие?
Аршакуни посмотрел на Захарова своими темными глазами – посмотрел пристально и добро.
– Мы есть, а их больше нет.
– Какие люди, какие люди… Джулио, Чеслав…
Аршакуни положил ему руку на плечо.
– Мне пора идти, Матвей. Меня ждут в ремонтном.
– Иди, – сказал Захаров.
Аршакуни ушел. У начальника ремонтных мастерских всегда очень мало времени. Захаров посмотрел ему вслед, потом повернулся к бармену:
– Налей мне еще, Барни.
В этот момент кто-то обратился к нему сзади – по-русски, но с таким невообразимым акцентом, что Захаров не сразу понял:
– Простите, мне сказали, что вы – дежурный диспетчер. Что слышно о «Дип Вью»?
Захаров обернулся. Высокий блондин в форме американской гражданской авиации со значком «Траспасифика» на груди. Очевидно, с того дирижабля. И лицо… Странно знакомое лицо…
– Да, – сказал Захаров по-английски. – Я был дежурным диспетчером. До тринадцати ноль-ноль. «Дип Вью» ищут. И может быть, спасут. Вот только кто спасет двух подводников, погибших при поисках?
Получилось зло, резко и зло, и Захаров сам почувствовал это.
– Извините, – сказал он. – Погиб мой друг.
– Я не знал. Простите.
Летчик спросил виски.
– Двойной. Со льдом. – И, перехватив недоуменный взгляд Захарова, пояснил: – Мне можно. Теперь можно. Позвольте представиться: Сидней Стентон, командир этого дирижабля. Собственно, бывший командир. Меня уже отстранили – до окончания расследования. Следственная комиссия прилетит завтра. Так что сегодня мне можно.
Захаров в свою очередь представился.
– Стентон, Стентон… Почему мне кажется, что я знаю вас?
– Не знаю, – ответил Стентон. – По-моему, мы с вами до сих пор не встречались. – И сразу же переменил тему: – Как вы думаете, его спасут?
– Кого?
– Кулиджа. Который в «Дип Вью».
– По всей вероятности.
– Хоть бы его спасли, – тихо сказал Стентон. – Только бы его спасли…
– Вы знали его?
– Нет. Но он бы меня узнал. Если его спасут – я набью ему морду. Ох, как я набью ему морду! За все: за него, за Кору, за себя, за ваших подводников…
Захаров повернулся к бармену.
– Налей нам еще, Барни. Нет, мистеру Стентону повтори, а мне хватит. Мне минеральной. – И, обращаясь к Стентону, добавил: – Пойдемте за столик, мистер Стентон. Там уютнее. И легче поговорить.


