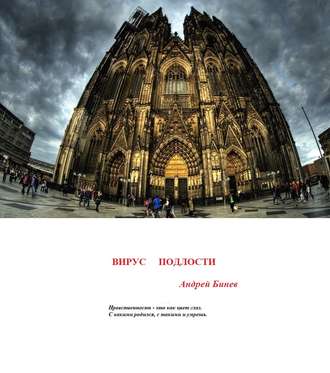
Андрей Бинев
Вирус подлости
«Немецкая волна»
– Как ты тогда выжил! – спрашивал Саранский, скользя машиной по узким улочкам Кёльна и поглядывая в зеркало заднего вида, – И надо же такому случиться: опять угодил в кошмар! Теперь уже под мои колеса!
– Выжил? – рассмеялся Постышев, – Почему выжил? Я себе просто здорово отшиб спину! Врачи сказали: удачно упал. Голова уцелела, позвоночник, кости, ребра тоже. Копчик зашиб и мягкие ткани…
– Жопу, что ли? – усмехнулся Саранский.
– Андрюша! – возмутилась жена и с негодованием отвернулась к окну, за которым огнями метался в ночи город.
– Да что я такого сказал! – продолжал упрямо настаивать Саранский, – Ну, ушиб свой «мускулюс глитеус»! Это вам нравится?
– Я же сказал, спину в основном, – без какого-либо волнения ответил Постышев, – До сих пор побаливает к дурной погоде. А теперь еще и нога, опять-таки по твоей милости, начнет саднить!
Саранский продолжал кружить по городу, стараясь попасть на улочку с односторонним движением, в конце которой, рядом с кафедральным собором, по словам Постышева, он и жил с Таней и с маленькой Верой.
Андрей Евгеньевич повернул в профиль голову к сидящему сзади Постышеву и спросил:
– Вадик! А я за всем этим запамятовал у тебя поинтересоваться – а где ты работаешь? На что вы живете?
Постышев помолчал немного, раздумывая, стоит ли сообщать что-нибудь о себе этому человеку, но всё же ответил:
– Я работаю на Deutsche Welle…на радио…
Саранский испуганно притормозил, тут же услышав за багажником машины недовольные короткие гудки – резкие приемы в узких уличных проездах здесь были не приняты. Он осторожно, взяв себя в руки, втиснулся в щель между двумя припаркованными около тротуара автомобилями и остановился. Мимо окон его машины медленно проплыли те, кто раздраженно гудел мгновение назад. На Саранского через чисто вымытые окна своих автомобилей смотрели сдержанные, но очень недовольные, с гранью соболезнующего презрения, взгляды. Для них лишь дипломатические номера автомобиля, то есть официальная принадлежность к иностранному сообществу, объясняли и даже до определенной степени прощали его дорожную бесцеремонность. Это – как человек со странностями от природы или ранения; как деревенщина, оказавшаяся в большом городе; как плохо воспитанный ребенок в обществе неглупых взрослых. Другой бы получил всё, что ему причитается в таком случае, а этим немногочисленным категориям нарушителей многое прощается – такова привилегия сильного перед слабым. Дипломаты и иностранцы из традиционных обществ это понимают и стараются не попадаться на крючок вынужденной вежливости. У остальных же – как получится!
Андрей Евгеньевич повернулся к Постышеву:
– Послушай, Вадик! А почему мы не слышали тебя ни разу по этому чертовому «Велле»!
– Я всего лишь редактор. Только готовлю передачи…, но в эфире не работаю…, голос у меня того…слабоват. Но я ни разу против России, ничего! Не позволяю себе!
Саранский почесал затылок, отвернулся от Постышева и сказал, не адресуя это никому:
– Езжу, понимаешь почти каждый день мимо…этого… Парит, чадит, …исчадье ада!
– Кто чадит?! – возмутился Постышев.
– Радиостанция ваша, вот кто! А еще говорят, ее хотят в Бонн перевести…, на Шумахер-штрассе уже и строительство начали.
Это было сказано таким раздраженным, недовольным тоном, каким сообщают о строительстве под окнами своего жилого района мусороперерабатывающего комбината.
Саранский включил левый поворотный сигнал и, не дожидаясь позволения едущих слева автомобилей, резко вывернул на проезжую часть. Сзади вновь возмущенно загудели и несколько раз нервно засветили дальними огнями фар.
– Да идите вы, фрицы недорезанные! – выкрикнул Андрей Евгеньевич и упрямым, почти орлиным взором уставился перед собой.
– Андрюша! – как и прежде, с возмущением, воскликнула Лариса Алексеевна.
– Что Андрюша! Что Андрюша! – не унимался взбешенный Саранский, – Вон сидит сзади…в ус себе не дует. Мы врага с тобой везем! «Немецкая волна», понимаешь! «Deutsche Welle»! Клеветники, мать их в глотку!
– Андрюша! – опять вскрикнула жена, – Что ты такое говоришь!
– Останови машину! – вдруг понизив голос, потребовал Постышев, – останови машину, гад!
Саранский испуганно, чувствуя, что «перегнул палку», притормозил и на этот раз, соблюдая все положенные в таком случае дорожные правила, съехал с проезжей части в уютный, неглубокий тупичок. Постышев сразу же открыл дверь и, пыхтя, оберегая ногу, вылез из автомобиля. Саранский живо выскочил вслед за ним.
– Ты чего, Вадик! – крикнул он и ухватил Постышева за рукав, – У тебя же нога…и того…, штанина болтается как собачьи…эти…
– Сам ты как «собачьи эти»! – прошипел сквозь сжатые зубы Постышев, – Пошел ты! Враг я им, видишь ли! А они мне друзья!
– Да я не то хотел сказать, Вадик! – суетился Саранский, все крепче сжимая Постышева за предплечье.
– А что, что ты хотел сказать! Что друг? – Вадим с силой рванул руку и услышал, как подмышкой затрещала ткань.
Андрей Евгеньевич в панике отскочил в сторону и замахал руками:
– Да остановись ты, чудак-человек! Я тебя к самому подъезду доставлю!
Вадим обернулся, потом осмотрелся вокруг себя и зло ухмыляясь, сказал:
– Уже доставил! Спасибочки!
Он пропустил автомобиль, медленно едущий по узкой улочке, и, сильно хромая, волоча за собой жалкую разорванную штанину, перешел на другую сторону. Саранский не стал его догонять, а лишь пристально вглядывался в удаляющуюся фигуру.
Постышев остановился около крыльца высокого серого строения, достал из кармана связку ключей, поколдовал над замком подъезда и исчез в нем, громко хлопнув массивной дверью. Андрей Евгеньевич прошел чуть вперед, остановился на противоположной от того дома стороне и медленно стал подниматься взглядом к верхним этажам. Окна горели почти везде, и он пытался угадать, за каким из них ждут Вадима его Таня и Вера. Ему показалось, что на третьем этаже, за высокой двустворчатой рамой, метнулась знакомая изящная фигура. Душа у него вновь сладостно вздрогнула, как это бывало раньше в Вене, когда он видел или даже просто чувствовал поблизости Таню. Он с опасением быть застигнутым врасплох женой обернулся на свою машину и разглядел за бликом лобового стекла ее напряженное лицо.
Одна из фар автомобиля по-прежнему не светила.
– Надо бы заменить ее побыстрее! – сказал сам себе в полголоса Саранский, еще раз скользнул взглядом по чужим окнам и, сгибаясь под тяжестью невысказанного и недоделанного побрел к своему автомобилю. Спроси его сейчас, о чем он думал, когда сказал о быстрой замене, он скорее всего бы смутился. Очень уж двусмысленно это выходило; двусмысленно и неожиданно.
Он не знал в этот момент, что кое-что ему еще всё-таки придется доделать и что история не закончилась этим вечером, как и не этим вечером она началась.
Ботинки Постышева
Вадим «прихромал» домой совершенно разбитый – и в прямом и в переносном смысле слова. Таня взволнованно, удивленная необыкновенной задержкой на службе, выглядывала его в окно. Но с их третьего этажа гордо выпяченного к небу каменного тела дома улочка почти не была видна – лишь крыши проезжающих в узком пространстве автомобилей, да и то лишь тех, что выше обычных легковых, да еще угол небольшого тупичка справа от парадного. То, что в сектор наблюдения попадет ее Вадим, Таня совершенно не надеялась, но беспокойство упрямо гнало ее к окну.
Появление Вадима она ощутила на необъяснимом чувственном уровне, не услышав ни его голоса, ни его шагов, и, конечно же, не увидев его. Просто она поняла в какое-то мгновение, что сейчас распахнется дверь и метнулась к ней от окна.
Вадим, тяжело вздыхая и подметая пол разорванной штаниной, ввалился в прихожую их съемной квартиры с гигантскими потолками и свалился в ротондовое креслице рядом с дверью.
– Боже мой! – вскрикнула Таня и строго округлила свои темные глаза, – Это что такое!
– Сказал бы, что бандитская пуля, как в рязановском кино, – печально усмехнулся Вадим и стал потирать ладонями обеих рук вытянутую вперед ногу в разорванной штанине, – Да пули, видишь ли, не было!
– А что, что было! – возмущалась Таня. Она склонилась рядом с вытянутой столбом ногой мужа и опасливо дотронулась до нее длинным узким пальцем с холеным ногтем.
– Бандитский бампер. Вот, что было, Танюша! – покачал головой Вадим, – Месть чекистов догнала. Когда ее уже совсем не ждешь.
– Что ты несешь! – Таня мгновенно покрылась краской и, оступившись, села на пол рядом с ногой Вадима.
Он засмеялся и протянул ей руку. Таня ухватилась за его ладонь, но потом, испугавшись, что доставит боль Вадиму, оттолкнула ее от себя и быстро поднялась.
– Помнишь Саранского?
– Кого? – Таня еще больше округлила глаза.
В прихожую задумчиво вышла Вера, кусая верхушку толстого красного карандаша. Вадим раскрыл ей объятия, и она, совершенно не замечая ранения отца, прыгнула к нему. Вадим поморщился, но желание прижать к себе девочку оказалось сильнее боли.
– Саранского, – повторил Вадим, зарываясь лицом в волосы дочери, – Худенького такого мерзавца на автомобиле с тяжелым бампером.
– Саранский? Андрей? – продолжала удивляться Таня, и рассеянно посмотрела на дочь – Вера, отпусти отца! У него сейчас нога отвалится и нам придется ее выбросить! На ночь глядя!
Вера с удивлением оглядела вытянутую вперед ногу и испуганно отодвинулась от Валима.
– Он самый! – Вадим вздохнул и с кряхтением, не сгибая ноги, поднялся во весь рост, – Я себе шел, шел, никого не трогал…, а тут меня хрясь бампером! Открываю глаза – между мной и небом перепуганная насмерть рожа Саранского. Я сначала подумал, мне всё это снится, а потом как почувствовал боль в ноге, сразу понял, что заснуть еще долго не придется.
– Ты был в больнице?! Что с ногой? – Таня цеплялась за пиджак Вадима, как она это всегда делала: залезала ему подмышку и обхватывала своими цепкими, неожиданно сильными руками за бока.
С другой стороны на Вадиме повисла Вера. Он вдруг почувствовал себя счастливейшим на свете человеком, обхватил с высоты своего роста обеих и порывисто прижал к себе. Хромая и растерянно улыбаясь, он, поддерживаемый, прошел в комнату, и там его отпустили, потому что впереди был старый, потрескавшийся кожаный диван, к которому его по привычке тянуло с того самого момента, как он вышел со службы, даже еще до того, как его треснуло бампером Саранского.
– Меня треснуло бампером Саранского! – сказал он вслух, падая на диван и задирая кверху, на валик, обе ноги в пыльной обуви. Одна из ног была в разорванной штанине и отсвечивала свежей, упругой бинтовой перевязкой, – Как звучит, Танюша! Бампер Саранского. Как кристаллы Сваровского! Эстетично, хоть и не очень ценно.
– Папа! – громко произнесла Вера и ткнула вытянутым указательным пальцем на огромные ботинки отца, возвышавшиеся над круглым валиком дивана так, словно их носки вот-вот достанут до высоченного потолка, – Сними «ботинки Постышева».
Она твердо знала с самого начала своей разумной жизни, что эта крупная деталь отличает ее отца от всех остальных, и всегда обращает на себя внимание мамы, если ботинки не сняты в прихожей, а повели за собой влажный след по паркету всей квартиры, где бы эта квартира ни была. «Ботинки Постышева» значили для нее столько же, сколько для кого-то кожаное пальто со знакомым запахом, курительная трубка с памятными царапинами, ущербинами, или древний домашний халат с потертым воротником и заштопанным локтем. Это был опознаваемый предмет, за которым стоял уютный, домашний покой и привычка к нему, без чего, подсказывало ребенку неосознанное еще чутье, не бывает дома, не бывает будущего. Те, у кого был такой дом, могут вспомнить нечто такое же, на первый взгляд, забытое, но при внимательном, дотошном воспоминании – заключающее в себе то большое и важное, что умещается в «малом», например, в «ботинках Постышева», как в этой семье.
Вадим и Таня неожиданно весело переглянулись, услышав от Веры ее нешуточное, важное, в замен маминого, замечание. Оба, одновременно, подвинулись к дочери – он, приподнявшись с дивана, а она, усевшись на его краешек – и порывисто обхватили девочку с обеих сторон. Вера ловко, привычно вывернулась и, строго погрозив родителям огромным карандашом, унеслась по коридору, выходящему сюда, в гостиную, так же, как это было в венской квартире, в сторону своей комнаты.
Уже в постели, поздно ночью, прижимая к себе Таню, Вадим шепотом рассказывал ей и как ее сбила машина, и как вокруг собралась толпа, и про полицейского, и про струсившего Саранского с его серенькой женушкой, и про доктора с тремя одинаковыми именами, и про то, что это, к счастью, всё так обыкновенно закончилось – он приплелся домой, а Саранского с его кислой физиономией и тяжелым бампером он потерял на улице.
– Ну и ладно! – сквозь сон шептала Таня, уютно врастая Вадиму подмышку, – Ну и черт с ним с его рожей и с его бампером! Спи себе! Завтра сходим к врачу с одним именем, а не с тремя. У тебя ведь есть страховка. К тому же, полицейский записал твое имя… Настрочит бумагу, а страховщики ее прочитают, и всё будет тип-топ…
Вадим привык к тому, что, когда она засыпала или, напротив, неожиданно отходила ото сна, ее мысли смешно путались и кружились в забавном, сонном мозаичном танце. Он усмехнулся в темноту и, с трудом сдерживая свою нежность, чтобы не дать ей воли, просто прижал к себе жену. Она уютно подчинилась его движению, засопела и почти мгновенно уснула. Вадим, боясь потревожить ее, лежал в неудобной позе, лишь слегка пошевеливая больной ногой, желая чувствовать ее местоположение, чтобы ненароком, во сне, не растревожить.
Ночные кошмары
Он не засыпал, наблюдая за редкими бликами на высоком потолке от фар случайных машин. Однажды он уже так лежал, израненный, боком на кровати, но только к нему не прижималась Таня. Это было в госпитале, в Вене. Он тогда всё пытался понять – как это он оторвался от пола и ухнул в лестничный пролет? Не толкнули ли его? Но вспоминая все подробности, говорил себе, что рядом никого не было, если, конечно, не считать страха. А ведь в таком случае, как его, страх вполне может иметь свое лицо, свое человеческое тело, свои мышцы, тяжелые кулаки и оскаленные челюсти. Но он не всегда материализуется в одушевленный образ и убивает даже раньше, чем хоть что-то подтвердит его реальность. Материализовавшийся страх – это убийца, которого по всем законам следует искать и предавать суду. А что делать, если страх всего лишь живет в твоем сознании, если он не успел материализоваться, то есть неподсуден и недоказуем? Но он также реален, как человек, в которого он обращается! И также эффективен! Страхи не живут в нас, они всегда вне наших тел – просто одни их ощущают, а другие глухи к ним. Здесь нет места трусливой мистике, здесь всё реально.
Вот почему его ноги оторвались от лестницы и он свалился вниз! Возможно и те две тени, которые метнулись от его тела, тоже плод воображения? Он почти с болью в голове напряг память, всё повторилось заново в его сознании, но уже как будто на замедленном кадре, тягучем как застывший, холодный кисель.
Конечно! Там были два человека. Они даже взвизгнули, когда он приземлился на спину и его сознание уже отлетало. Это были материальные тела! Несомненно! Значит, Саранский не лгал. Его должны были захватить прямо внизу. А что бы они сделали дальше? Ведь не на родине же! Тут всем следует менять лица, прятать глаза, стираться из памяти властей… Нет! Всё просто! Укол чем-то сильнодействующим, потом бы выволокли из подъезда, словно, пьяного, бросили бы в машину и укатили в посольство. А там опять накачали бы чем-нибудь, и так до самой Москвы. Очнулся бы в камере на Лубянке, во внутреннем изоляторе. Говорят, там три этажа, они связаны с основным зданием. Поволокут по узким темным коридорам, втолкнут в душную, без окон, комнату, бросят на одинокую табуретку и уйдут, а он будет с отчаянием дожидаться следователя. И сразу первый же вопрос:
– Что вы делали в квартире американского шпиона Вольфганга Ротенберга?
– Нет! – крикнул бы Вадим, – Я там не был!
– Тогда какого черта вас понесло в его дом? – криво ухмылялся бы следователь.
Пришлось бы плести что-нибудь несуразное, а следователь бы слушал и записывал, а потом прокрутил бы магнитофонную запись разговора с Саранским. И «под грузом изобличающих фактов» пришлось бы сначала сознаться в том, что ходил к шпиону Ротенбергу, а потом, наверное, и в том, что постоянно передавал ему какие-то важные государственные тайны. Он бы не смог назвать эти самые «тайны» и в обвинительном заключении следователь через пару месяцев написал бы, что гражданин Постышев не осознал всю тяжесть своей предательской деятельности и со следствием на сотрудничество так и не пошел. Не разоружился перед властью, перед партией! Беспроигрышное прохиндейство с их стороны, черт побери! Танюшу не пожалеют, Верке изуродуют жизнь! А бывшая его семья? Сын? Первая жена? Она как же! Из нее же все соки выдавят – дай, понимаешь, показания на своего бывшего муженька и всё тут! На предателя! Тебя предал с сыном, теперь родину! Гад!
Нет, это хорошо, что он свалился в пролет и перепугал насмерть своих похитителей. В таком виде они не могли его подобрать и доставить в посольство. А если он насмерть расшибся! А если умрет у них на руках! Как всё это потом объяснять? Как обтяпать такое дело!
Вот тебе и игра в «знаю-не знаю»! Он знал, что они знают, что он знает, что они знали… Навязчивый, как дурной сон, абсурд! Никто ничего не знал! И он сам! …Что его вытолкнет за дверь Ротенберг, что он ухнет в лестничный пролет и что останется при этом жив, хоть и не очень здоров… «Я знаю, что я ничего не знаю»! Сократ и потом Платон, который донес нам на Сократа. Может быть, они тоже были разведчиками, эти философы? Древнегреческими, античными разведчиками-философами? Боже, какая чушь! Бред отмирающего в сон мозга.
Завершение венской партии
Первым ранним утренним его посетителем в той венской больнице была Таня, отчаянное, бледное и изящное привидение с огромными, черными заплаканными глазами. За ней, цепляясь, за широкую шерстяную юбку, как ее маленькая испуганная копия, жалась Вера.
– Ты нас с Веркой когда-нибудь доведешь до кондрашки! – всхлипнув, сказала Таня.
– Хорошенькое дело! – попытался улыбнуться Вадим.
– Хорошенькое дело! – подхватила Таня.
– У меня только немного болит спина и голова, – оправдывался Вадим, – А так я как огурец! Длинный и тонкий!
– Тебя толкнули? – будто не желая услышать ничего, кроме подтверждения, хищно сузила глаза Таня.
– Никто меня не толкал, – почему-то застеснялся Вадим, – Я сам…, перегнулся через перила и не удержался… Я хотел посмотреть, не ждут ли меня внизу…
– Почему ты вышел от Вольфганга? – воскликнула Таня, – Мы же договаривались, что ты останешься у него, а за мной с Верой приедут!
– Он меня выставил за дверь! – вспомнив всё разом, с горькой обидой, почти готовый разрыдаться от стыда, низким голосом ответил Вадим, – Но вы-то здесь! Оказывается, это тоже выход! Они не посмели вас схватить после моего прыжка…, то есть после того, как я свалился вниз…
– Ты сказал – прыжка! – напряженно вымолвила Таня и с тем же прищуром, подозрительно, будто догадалась о чем-то очень важном, посмотрела на мужа.
– Оговорился! Я оговорился…
– По Фрейду! – изобличала его Таня, – О чем думал, то и сказал!
– Дурак он, твой Фрейд! – рассердился Вадим, – Старый параноик! Ему самому лечиться надо было…
– Тебя не спросили…, – обиделась за Фрейда Таня.
Она когда-то окончила психологический факультет московского университета и до сих пор не могла смириться с мыслью, что ее заставили отказаться от темы дипломной работы, в которой главным действующим лицом был как раз этот самый Зигмунд Фрейд. Ей тогда строго указали на его мелкобуржуазные заблуждения, на навязчивость его сознания, на «сексопатологию его личности». Так и сказали! И еще что-то гадкое говорили, и даже называли, как и теперь ее Постышев, старым параноиком.
– Я больной человек, измученный недоверием со стороны друзей и врагов! – делано застонал Вадим и блеснул на Таню и Веру озорным, хитрым глазом, – А ты меня Фрейдом пугаешь! Травишь прямо!
– Ты специально прыгнул вниз? – упрямствовала Таня, не желая менять тона.
– Да нет же! Что я, сумасшедший, что ли! Случайно всё вышло…, – он осекся, потому что опять подумал, что не будь этой случайности, сейчас бы он уже летел в Москву без памяти, а Танюша с маленькой Верой рыдали бы в их венской квартире под приглядом какой-нибудь жестокой молчаливой сволочи. А утром следующего дня и их бы отправили на мстительную и злопамятную родину.
В дверь вошел высокий молодой врач, за ним шагал пожилой полный австриец с внимательными глазами потомственного полицейского. Вадим подумал, что сразу заполучить такие глаза первым в роду невозможно. К ним должны идти несколько поколений честных, непреклонных полицейских. Это почему-то успокоило Вадима.
– Герр Постышев, – мягко сказал врач и качнулся на своих длинных, как будто соломенных, ногах, – Как вы себя чувствуете?
– Как парашютист, которого обманули…, – попытался отшутиться Вадим, но врач не принял шутки, а кинул косой взгляд себе за спину на полицейского, и оба явно получили подтверждение своим самым наихудшим подозрениям.
– Какой такой парашютист? – подозрительно спросил полицейский с честными, суровыми глазами старого пса.
– Это анекдот…, – смутился Постышев, – У нас есть такой анекдот… Понимаете? Парашютисту обещают счастливое приземление, а за смелость предлагают в награду новый автомобиль…
– И что? – не понижая градуса недоверия, потребовал продолжения истории полицейский.
– А ничего! – вспылили вдруг Вадим и покраснел, – Парашют не раскрылся, а парашютист летит и ворчит: «с парашютом надули, теперь посмотрим, как с машиной»! Старый анекдот! С бородой! Понимаете?
– А причем здесь вы? – чуть задумавшись над услышанным, строго и серьезно продолжал настаивать полицейский.
– Он здесь не причем! – услышали все от порога решительный голос.
Вадим вскинул в сторону голоса глаза, но врач и полицейский загораживали от него говорившего. Таня и Вера быстро развернулись на голос.
– Вы кто такой! – мгновенно, словно выхватил оружие из кармана, бросил старый полицейский.
– Вольфганг Ротенберг. А вы старый матерый полицейский волкодав! – рассмеялся человек у порога, – Только слепой этого не поймет! Великолепная реакция!
С этого момента всё сразу изменилось в жизни Вадима и Тани с Верой. На глазах у наблюдателей из советского посольства, которые несколько раз, возглавляемые сотрудником консульства, пытались прорваться в его палату и кричали, что советского гражданина силой удерживают на больничной койке, и что в Москве ему предоставят лучшие условия для выздоровления, Вадима уложили в «линейку» и увезли в загородную резиденцию американской миссии. К нему приставили двух медсестер, двух охранников, очень похожих на тех, что встретились ему как-то в подъезде (это почти животное сходство псов одной породы, с той лишь разницей, что одна из пород выведена на западе, а вторая на северо-востоке – всего лишь рацион и климатические условия разделяли их), а один раз все же пришел старый полицейский и уже куда более приветливо, чем в больнице, стал спрашивать, не толкнул ли кто-нибудь Вадима вниз, и не видел ли он кого-нибудь постороннего в подъезде.
Постышев сначала задумался, как ответить на вопрос о посторонних в подъезде, но все же решил, что это его с ними «внутреннее дело», почти «семейное», и сказал, что никого не видел. Он подписал какие-то бумаги и полицейский исчез.
Таня с Верой жили тут же, в соседнем флигеле и виделись с Вадимом постоянно, кроме тех случаев, когда к нему приезжал Вольфганг с одним любопытным типом и настойчиво спрашивал, почему он решил придти в тот вечер именно к нему и кто ему сказал, что Ротенберг разведчик.
– Это все знают! – упрямо твердил Вадим.
Ротенберг краснел и недоверчиво качал головой, а любопытный тип поглядывал на коллегу с явной издевкой.
Через две недели, когда Вадима в последний раз осмотрел врач-американец, лысый, серьезный мужчина лет пятидесяти, и заключил, что он совершенно здоров и что ему просто необыкновенно повезло с этим его «лестничным» прыжком, Ротенберг приехал с тем же любопытным коллегой и сказал:
– У вас есть выбор, дорогой Вадим: мы вернем вас и вашу семью советским парням или переправим вас в Германию. Тайно переправим, потому что ни австрийцы, ни немцы не захотят оформлять нужные бумаги. Слишком много шума, слишком много неприятностей. Вы нас с позиции разведки совершенно не интересуете. Всё это бред советских контрразведчиков! Вы не интересны ни нам, ни немцам, ни австрийцам! Но…принять участие в вашей судьбе, как и в судьбе Татьяны и вашей маленькой дочки мы просто обязаны. Иначе это было бы безнравственно! В Кёльне, в «Deutsche Welle» для вас есть место редактора. На первое время мы субсидируем вас некоторой суммой…из специального фонда одной неправительственной организации, а там дальше посмотрим… Приживетесь, приработаетесь… Впрочем, вы можете вернуться домой… Только скажите, и никаких проблем!
Вадим задумчиво посмотрел на Вольфганга, потом на его коллегу и спросил:
– Я за всё время ни разу вас не спросил, Вольфганг…, почему вы тогда мне не помогли? Почему вы выставили меня за дверь, на лестницу? Я бы не упал с лестницы, ничего такого бы не случилось! Всё бы могло получиться с меньшим скандалом…
Вольфганг и тот, что так и не назвал своего имени, переглянулись и покачали головами.
– Именно, Вадим! – сказал Ротенберг, – Ничего бы не вышло! И ничего бы не было! С какой стати мы принимали бы в вас участие? Тогда пришлось бы сознаться в несуществующем, то есть в том, что вы наш агент. А это ведь не так! Но теперь, когда вы явно пострадали, когда вас просто затравили ваши же власти, мы можем вмешаться как гуманитарная организация, неправительственный фонд или как, в конце концов, солидное информационное агентство с цивилизованными взглядами на права человека, да и просто, как люди, которые могут помочь… Это объяснимо, и это освобождает от ответственности не только нас, но, поверьте, и вас! Никаких оснований подозревать вас в шпионаже в пользу врага теперь уже нет!
– А что были? – криво ухмыльнулся Постышев.
– Конечно, нет! – впервые сказал безымянный тип, – Я это могу подтвердить…
– А вы кто? – повернулся к нему Постышев, – Я вижу вас уже, по крайней мере, в третий раз, но даже не знаю вашего имени.
– Виноват, – хмыкнул безымянный, – Зовите меня Биллом. И только! Я эксперт из службы национальной безопасности и в мои обязанности входит проверка тех иностранцев, кто случайно или намеренно попал в зону наших интересов.
– Черт с вами, Билли, и с вашей безопасностью, – проворчал Постышев, – У нас таких, как вы, хоть пруд пруди.
Он с раздражением, неожиданным для себя самого, вдруг понял, что те, от кого он хотел улизнуть, вездесущи: они могут выглядеть по-другому, говорить с детства на других языках, но они – братья, они необходимы друг другу и похожи друг на друга, как два противоположных полюса.
Постышев прищурился, разглядывая Билли и подумал, что, судя по землистому цвету его лица он такой же пьяница и прохиндей, как его тайные советские коллеги. Наверное, только нашей водке предпочитает виски.
Вадим поморщился и с презрением спросил:
– Вы водку пьете?
– У меня почечная недостаточность, – ответил Билл так, будто называл другой спиртной напиток, а не тот, о котором спрашивал Вадим.
– Наши, такие как вы, водку пьют. А с почечной недостаточностью их бы комиссовали, как профессионально непригодных.
– А что, если бы я сказал, что пью? – с обидой спросил Билл.
– Я бы тогда вас лучше понял. Раз пьет, значит, предсказуем, а кто не пьет, тот закладывает… Закон разведки! – зло рассмеялся Вадим.
– У нас всё не так. У нас как раз непредсказуем тот, кто пьет…, – защитил обиженного коллегу с почечной недостаточностью Вольфганг, – Но вы не ответили на мой вопрос: мы вас возвращаем вашим или вывозим тайно, вместе с семьей, в Германию?
– А если я скажу, возвращаете нашим, как это отразится на Тане и Вере? – прищурился Вадим.
– Таня тоже может сделать свой выбор. Она – человек с такими же правами…, – убедительно покачал головой Вольфганг.
– Она не поедет в Москву, – задумчиво сказал Постышев, будто и не слушал Ротенберга, – Ни за что не поедет! Мы уже говорили с ней об этом.
– А вы еще колеблетесь? – сквозь зубы спросил Билли.
– Как вам сказать…, – устало вздохнул Постышев, – Это ведь моя вторая семья… В Москве осталась Люда и сын…, Коля…, Ники, по-вашему… С ними-то что будет?
– Это вне нашей компетенции, – сухо прервал его Ротенберг., – Словом, жду вашего ответа. Не позже завтрашнего утра.
Оба американца решительно развернулись и вышли из комнаты. Билли, уходя, на секунду задержался около прямоугольного стенного зеркало в прихожей и с тревогой оглядел свое лицо – неужели он так похож на русского пьянчугу? Но что-то его успокоило, и он быстрым, торопливым шагом догнал Вольфганга.
Постышев и сам понимал, что выбора у него нет, но очень не хотелось выглядеть в глазах американцев беспомощным загнанным мелким зверьком. Почему-то именно это его более всего оскорбляло.
– А ты и не хищник! – рассмеялась вечером тот же дня Таня, – И не травоядный! И не грызун! Ты вообще не зверек…
– Кто же я тогда? – печально вздохнул Вадим.
– Человекообразный…
– А они человеки? – печально усмехнулся Постышев.
– А они человеки.
– Кто они? – оживился Вадим, блеснув на Таню глазами, – Ты кого имеешь в виду?
– А ты? – не сдавалась она.
– Всех…, и тех и других.
– И я всех.
– Вот как! – обиделся за себя Вадим, – А почему так?
– Потому что они диктуют условия содержания в своем зоопарке, а не ты. И кормят они… К тому же составляют на своих питомцев биологические паспорта – вот хищники, вот травоядные, а вот и близкие к ним – человекообразные. Ты – человекообразный. И мы тоже. Разве это так плохо?
– Даже трогательно, – покачал головой Вадим и обнял Таню.
Утром следующего дня Вадим на вопросительный взгляд Вольфганга, который на этот раз приехал один, молча кинул. Через три дня, ночью, за Постышевыми заехал длинный черный автомобиль с непроницаемыми, как в катафалке, окнами, за рулем которого сидела немолодая женщина со сжатыми в узкую неприветливую струнку губами. Усаживал всю семью в машину Вольфганг.
– Магда довезет вас до Мюнхена, – сказал он коротко, – Там она даст вам немного денег и временные документы, и вы на поезде самостоятельно доберетесь до Кёльна.
В этот момент на территорию въехали еще две такие же черные машины с женщинами за рулем.







