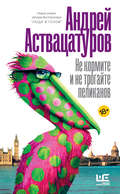Андрей Аствацатуров
Автор и герой в лабиринте идей
В финале Геронтион готовится к смерти, которая придет не как освобождение, а как сон разума и превратит его в прах, в пассивную материю, лишенную даже способности себя осознавать. «Бесплодная земля» и «Полые люди» продолжат эсхатологическую линию «Геронтиона», которая будет преодолена лишь в более поздних текстах.
«Суини среди соловьев»: предметы и концепции
Еще один этапный текст Т. С. Элиота – его стихотворение «Суини среди соловьев». Приведем полный текст этого стихотворения:
Sweeney Among the Nightingales
ὤμοι, πέπληγμαι καιρίαν πληγὴν ἔσω.
Apeneck Sweeney spreads his knees
Letting his arms hang down to laugh,
The zebra stripes along his jaw
Swelling to maculate giraffe.
The circles of the stormy moon
Slide westward toward the River Plate,
Death and the Raven drift above
And Sweeney guards the horned gate.
Gloomy Orion and Dog
Are veiled; and hushed the shrunken seas;
The person in the Spanish cape
Tries to sit on Sweeney’s knees
Slips and pulls the table cloth
Overturns a coffee-cup,
Reorganized upon the floor
She yawns and draws a stocking up;
The silent man in mocha brown
Sprawls at the window-sill and gapes;
The waiter brings in oranges
Bananas, figs and hothouse grapes;
The silent vertebrate in brown
Contracts and concentrates, withdraws;
Rachel nèe Rabinovitch
Tears at the grapes with murderous paws;
She and the lady in the cape
Are suspect, thought to be in league;
Therefore the man with heavy eyes
Declines the gambit, shows fatigue,
Leaves the room and reappears
Outside the window, leaning in,
Branches of wisteria
Circumscribe the golden grin;
The host with someone indistinct
Converses at the door apart,
The nightingales are singing near
The Convent of the Sacred Heart,
And sang within the bloody wood
When Agamemnon cried aloud,
And let their liquid siftings fall
To stain the stiff dishonoured shroud[84].
* * *
«О горе! Мне нанесен смертельный удар!»
Горилла Суини расставил колени,
Трясется – от хохота, вероятно.
Руки болтаются; зебра на скулах
Превратилась в жирафьи пятна.
Круги штормовой луны к Ла-Плате
Скользят, озаряя небесный свод.
Смерть и Ворон парят над ними.
Суини – страж роговых ворот.
В дымке Пес и Орион
Над сморщившейся морской пустыней;
Некая дама в испанском плаще
Пытается сесть на колени Суини,
Падает, тащит со столика скатерть —
Кофейная чашечка на куски;
Дама устраивается на полу,
Зевает, подтягивает чулки;
Молчащий мужчина в кофейной паре
Возле окна развалился, злится;
Официант приносит бананы,
Фиги и виноград из теплицы;
Молчащий двуногий шумно вздыхает,
Мрачно обдумывает ретираду;
Рашель, урожденная Рабинович,
Когтями тянется к винограду;
У нее и у леди в испанском плаще
Сегодня зловеще-таинственный вид;
Усталый мужчина чует худое,
Отклоняет предложенный ими гамбит,
Выходит, показывается в окне,
Лунный свет скользит по затылку,
Побеги глицинии окружают
Широкую золотую ухмылку;
Хозяйка с кем-то, не видно с кем,
Калякает в приоткрытую дверцу,
А за углом поют соловьи
У монастыря Иисусова Сердца,
Поют, как пели в кровавом лесу,
Презревши Агамемноновы стоны,
Пели, роняя жидкий помет
На саван, и без того оскверненный[85].
Внешний план стихотворения представляет собой банальную сцену в дешевом кафе. Сюда пришел Суини, персонаж, фигурирующий в нескольких произведениях Т. С. Элиота («Суини Эректус», «Воскресная заутреня мистера Элиота», «Бесплодная земля», «Суини-агонист»). Суини всегда персонифицирует примитивную, чувственную стихию в человеке, что подчеркивается в данном тексте его сравнением с обезьяной, зеброй и жирафом. Его пытаются соблазнить две особы – вероятно, легкого поведения: некая дама в испанской накидке и Рашель Рабинович. Судя по всему, они задумали что-то недоброе. Суини смутно об этом догадывается. Он притворяется, что устал, и покидает «заведение». Обрамляющие сюжет зарисовки природы подчеркивают зловещий и непостижимый смысл всей сцены. Комментируя данное стихотворение, Элиот утверждал, что стремился передать атмосферу тревожного предчувствия[86].
Тревога и страх рождаются при соприкосновении человека с непостижимым. Мир привычный, познаваемый, сводимый к статичной рациональной схеме, внезапно предстает непонятным, уклоняющимся от концептуализации, странным. Реалии элиотовского пространства кажутся представленными, но не осмысленными. Наше внимание приковано к поверхности вещей. Элиот апеллирует к зрительному восприятию, демонстрируя «чистые», осязаемые предметы, явления и поступки людей, оставляя их вместе с тем неопределенными. Здесь достоверно лишь то, что мы видим, остальное (интерпретация, эмоциональная реакция на происходящее) вынесено за скобки и может быть навязано только читателем.
Мир стихотворения «Суини среди соловьев» предельно минимизирован. Если не считать двух «пейзажных» отступлений, не имеющих явной связи с происходящим, он ограничен пространством кафе, где сидит Суини. Какая-либо общая панорама (фон действия, следы «большого мира») в стихотворении начисто отсутствует. Элиотовское пространство предстает в своей сингулярности. Оно ни с чем не связано, ни к чему не отсылает и ничем не обусловлено. Кроме того, оно дискретно и легко дезориентирует читателя, который может по представленным разрозненным деталям так и не составить общего представления о происходящем. Событийная линия разбита на микроэпизоды, единство и последовательность которых обнаруживаются далеко не сразу, ибо они изолируются Элиотом друг от друга. То же самое можно сказать о предметах, явлениях и персонажах, появляющихся в стихотворении. Они единичны, вырваны из возможных связей. Так, о персонажах, их статусе, их прошлом, их внутреннем мире мы ничего не знаем. Глубинного единства между ними обнаружить невозможно. Их сводят воедино механические поверхностные отношения, которые лишь подчеркивают их разобщенность, да и те достаточно сложно установить: похоже, дамы пытаются соблазнить Суини и выманить у него деньги.
Еще одна особенность предметного уровня стихотворения заключается в том, что Элиот не изображает объект целостно. Этот объект всегда скрыт, и мы в состоянии увидеть лишь какую-то внешнюю деталь (обезьянью шею Суини, его костюм и золотую гримасу, испанскую накидку дамы, руки Рашель Рабинович, похожие на руки убийцы), представляющую его в метонимическом дискурсе, имплицитно включающем оценочные характеристики. В стихотворении даже появляется «неразличимый» персонаж, с которым беседует хозяин кафе.
Отсутствие панорамы действия, сингулярность предметов, их присутствие в виде внешних деталей – все эти качества элиотовского мира говорят нам о том, что пространство разворачивается на поверхности, за которой невозможно различить смысл или внутреннюю сущность. Это плоское, одномерное пространство, строящееся как декорация, где существенны лишь внешние комбинации элементов и отсутствуют глубина и объем. Персонаж утрачивает статус полноценного субъекта и выглядит как часть декорации, внешне гармонирующая с ее остальными элементами:
Выходит, показывается в окне,
Лунный свет скользит по затылку,
Побеги глицинии окружают
Широкую золотую ухмылку.
Отсутствие глубины означает неопределенность, невозможность применить здесь какую-либо схему и создать идеальный образ происшедшего. Мир стихотворения непрозрачен, непознаваем и одновременно не может быть возведен к абстрактной платоновской идее. Здесь есть только то, что мы видим, остальное (смысл, судьба) отсутствует. Мир этот ничтожен и не освещен божественным светом. Открыв сингулярность посюстороннего мира и воссоздав ее, Элиот приходит к основной метафоре своего раннего творчества – образу «бесплодной земли», необусловленного пространства, лишенного корней, живительных связей с системой мироздания.
Итак, предметный слой текста, предлагающий «чистые вещи», уклоняется от интерпретации, обнажая лишь внешнее и заведомо обрекая на провал любое понимание текста. Однако, переместившись с предметного слоя на языковой, читатель тотчас же окажется связанным жесткими интерпретациями, ибо язык всегда осваивает действительность, превращая чистые вещи в составляющие концепции. Возникает разрыв между слоями повествования, чистыми вещами и языком, разрыв между зрением и умозрением[87]. Облачение вещи в имя, встраивание ее в контекст искажает ее чистоту. Многогранный предмет редуцируется к условному понятию. Языковой слой всегда фиктивен, конвенционален. Элиот демаскирует его составляющие, показывая, каким образом работает язык современной культуры, описывающий действительность. Поэт обнажает этимологию этого языка, несущего определенную идеологию, и демонстрирует, как языки и концепции, прорастая друг через друга, рождают речь современного искусства.
Попытка придать ситуации, в которой обнаруживает себя Суини, универсальный характер обеспечивается включением в поэтическую реальность двух мифов: мифа об Атридах (Клитемнестра убивает своего мужа Агамемнона, вернувшегося из-под стен Трои) и мифа о Филомеле, обесчещенной царем Тереем и превращенной в соловья. Первый вводится эпиграфом из трагедии Эсхила «Агамемнон» («О горе! – кричит Агамемнон, сраженный Клитемнестрой. – Мне нанесен смертельный удар!»), второй – заглавием, и оба пересекаются в финальной строфе. Поверхностная параллель между ними и эпизодом в кафе очевидна. Суини отчасти ассоциируется с Агамемноном, погибшим от руки женщины, а дамы (возможно, проститутки) – с Клитемнестрой. Персонажу Элиота удается спастись, но он смутно ощущает опасность, таящуюся в женщинах. На уровне второго мифа Суини соотносится с фракийским царем Тереем, трагедия которого была вызвана его страстью к Филомеле (Филомела была превращена богами в соловья – отсюда и название стихотворения).
Итак, у читателя возникает иллюзия, что ситуация Суини трагедийна. И все же этот высокий пафос, казалось бы подтвержденный параллелями, оказывается фиктивным. Между современной сценой и мифами возникает ироническое несоответствие. Воссоздавая мифы в реальности стихотворения, Элиот обнажает их структуру и генезис. Поэт реконструирует их и интерпретирует на основе фрэзеровской ритуалемы умирающего/воскресающего бога растительности. Таким образом, сцена из современной жизни и оба мифа при их соотнесении должны быть возведены читателем к их общему источнику, древнему ритуалу. Агамемнон, Терей и Суини – аналоги бога растительности. Превращение Терея в удода может быть истолковано как смерть и воскресение бога в новом образе. Но эта интерпретация дезавуируется Элиотом и выносится за пределы стихотворения. Аналогичное толкование смерти Агамемнона, напротив, Элиотом эксплицируется. Указанием на ее интерпретацию через ритуалему Фрэзера становится намеренная ошибка Элиота. Агамемнон, как известно, был убит Клитемнестрой в своем дворце. В стихотворении сцена его гибели переносится в кровавую рощу («bloody wood»), где капает помет соловьев, оскверняющий саван Агамемнона:
Поют, как пели в кровавом лесу,
Презревши Агамемноновы стоны,
Пели, роняя жидкий помет
На саван, и без того оскверненный.
Здесь имеется в виду описанная Фрэзером в «Золотой ветви» священная роща у святилища Немийской Дианы, где совершалось ритуальное убийство жреца-царя его преемником[88]. Таким образом, трагедия Агамемнона, согласно Элиоту, является трансформацией древнего культа. В свою очередь, сцена в кафе также осмысляется как реализация ритуалемы. Этот уровень повествования вводится образом «штормовой луны» («stormy moon»):
Круги штормовой луны к Ла-Плате
Скользят, озаряя небесный свод.
Смерть и Ворон парят над ними.
Суини – страж роговых ворот.
Луна регулирует жизненные циклы, смена которых фиксируется ритуалом и, соответственно, «связана с мифом о расчленении»[89]. Кроме того, Луна ассоциируется с богиней Дианой, чье культовое действо описывает Фрэзер. Указанием на идею ритуала смерти в повествовании становятся образы Ворона, Смерти, Ориона (в «Энеиде» затуманенный Орион возникает как знак смерти), Пса[90]. Фрукты, которые вносит официант, эксплицирующие эротизм персонажей, также имеют ритуальный смысл: фиги и виноград, как указывает Фрэзер, являются аксессуарами бога Диониса[91]. Соответственно, отрывающая виноградины Рашель Рабинович имитирует обряд, связанный с культом этого бога, и выступает в роли вакханки. Аналогичным образом можно истолковать поведение ее компаньонки, «дамы в испанском плаще», которая падает, опрокидывает чашку, а затем приводит себя в порядок:
Slips and pulls the table-cloth
Overturns a coffee-cup,
Reorganized upon the floor
She yawns and draws a stocking up[92].
Падает, тащит со столика скатерть —
Кофейная чашечка на куски;
Дама устраивается на полу,
Зевает, подтягивает чулки…
Здесь мы видим имитацию ритуала: мир оказывается расчлененным, разрушенным, а затем вновь собранным, «реорганизованным».
Именно интерпретация через ритуалему Фрэзера обоих планов повествования (мифологического и реального) дает возможность читателю увидеть их принципиальное различие. Сам ритуал не может быть этически оправдан. Возрождение животной стихии в новой форме не есть рождение подлинной жизни. Последняя для Элиота всегда предполагает опосредованность духом, высший этический смысл. Этот смысл заключает в себе трагедия Агамемнона. Его ни в коей мере не отменяет элиотовская рефлексия, обнажающая скрытые механизмы софокловой трагедии. Смерть Агамемнона (или Терея) вводит идею искупления и этически опосредует ритуал, снимает дурную повторяемость жизненных циклов, наполняет бытие смыслом. В стихотворении греческая трагедия прочитывается сквозь призму нравственного императива христианства, знаком которого в тексте становится Монастырь святого сердца, перенесенный Элиотом в кровавую рощу, где происходит убийство Агамемнона[93]. Мир Суини принципиально иной. Здесь убийства не происходит. Герой и само его бытие не дорастают до осуществления подлинной трагедии. Ее смысл скрыт от героя: финальные строчки стихотворения показывают осквернение ее современной реальностью. Суини и его соблазнительницы остаются на уровне современного ритуала. Более того, культовое действо теряет в их поступках свой смысл. Современные люди (опрокинувшая чашку кофе женщина в испанской накидке или Рашель, отрывающая виноградину) лишь бессознательно, автоматически его имитируют. Ритуальные аксессуары в современной реальности – обычные фрукты. Элиот даже иронически уточняет, что виноград (растение Диониса) выращен в теплице («hothouse grapes»). Таким образом, эпизод в кафе – лишь бессмысленное нагромождение тривиальных событий. И элиотовская рефлексия направлена не только на миф, но и на попытки представить бытие современного человека как древнюю трагедию, концептуализировать его. В этом смысле стихотворение представляет собой полемику с романтизмом и декадансом. Элиот стилизует романтическую поэтику, вводит аллюзии и цитаты из стихотворений Э. Браунинг и С. Т. Кольриджа, описывая банальные события зловещими образами смерти. Загадочный пейзаж легко дешифруется. Луна символизирует женское начало. Ла-Плата – река в Южной Америке, ассоциирующаяся с идеей богатства. Через роговые ворота в реальный мир проникают зловещие сны[94]. Вся эта образность передает тривиальную мысль: женщина, стремясь заполучить деньги Суини, пытается его соблазнить. Утрируя романтический пафос, Элиот демонстрирует его фиктивность. Обе дамы-соблазнительницы также фигурируют в стихотворении как штампы, знаки романтическо-декадентской традиции: одна – испанка, другая – еврейка. Однако Элиот лишает своих персонажей страсти и демонизма. Они ленивы и совершают поступки с безразличием автоматов[95]. Трагедийный пафос, нагнетаемый романтической образностью, выглядит ложным.
Впрочем, С. Т. Кольридж в стихотворении «Соловей», к которому, несомненно, адресует читателя Элиот, как раз полемизирует с литературной традицией (в том числе с Джоном Мильтоном) видеть в соловье Филомелу и считать этот образ печальным и трагедийным. Для него соловей – художник, творец, символ радости и гармонии мироздания. Но для Элиота в определенном смысле нет разницы между соловьем у Мильтона и у Кольриджа. Последний предлагает лишь новую интерпретацию и создает очередной миф. Элиот деидеологизирует и демифологизирует этот образ. Его соловей – всего лишь птица, которая, как и положено птице, сидит на ветке и гадит. Последнее обстоятельство делает ее мифологизацию или возведение к платоновской идее невозможным. Разрыв между предметом и концепцией оказывается непреодолимым.
«Бесплодная земля»: диалог культур
Поэма «Бесплодная земля» является вершиной раннего творчества Элиота, его наиболее масштабным произведением. Здесь поэт интерпретирует не один тип языковой практики, как это было, например, в «Пруфроке», а множество. Поэтический язык современной культуры вскрывается автором «Бесплодной земли», обнаруживая все предыдущие стадии своего развития. В нем начинает просвечивать множество языков различных эпох, которые его последовательно сформировали. Он оказывается фактом их встречи и диалога. Элиот, как мы видим, предельно активизирует аналитические, а не собственно творческие механизмы порождения текста. Целостность, органичность текстов, с которыми работает поэт, обеспечивалась духом, невыразимой сущностью, сводящей воедино все компоненты текста. В процессе рефлексии, критического анализа этот дух редуцируется к формуле, обретает однозначность структуры, замещающей его. Читатель видит подчеркнутую условность риторических приемов. Однако перед ним предстают не застывшие схемы, штампы, а динамичные системы. Каким образом Элиот добивается этого эффекта?
Языки других эпох, подготовившие современный язык, проявляются в поэме в виде маркированных цитат, аллюзий, реминисценций, которые оказываются предельно семантически насыщены. Они репрезентируют в «Бесплодной земле» то произведение, откуда были заимствованы, и концентрируют в себе принципиальные моменты его поэтики и проблематики, давая возможность читателю пережить представленные ими произведения единовременно, ощутить их сущность. Цитируемые фрагменты репрезентируют, разумеется, не только само произведение, но и реализованную в нем эпоху, культурный блок, определенный тип ментальности. Ключевые эпизоды поэмы могут включать сцену или образ, отсылающие одновременно к нескольким произведениям и тем самым к нескольким культурным кодам. Здесь и возникает ситуация диалога культур, динамического роста, развития речи[96]. Мы наблюдаем художественную речь в процессе ее становления. Раскрытие Элиотом фиктивности «пратекстов» и условности риторических фигур ни в коем случае не ставит своей целью высмеять мастеров прошлого. Рефлексивная стратегия (критические усилия, в терминологии Элиота) предполагает лишь освоение их поэтики, знание тех правил, по которым строилась их речь. Элиот творит, последовательно погружаясь в различные эпохи, становясь на место своих поэтических предшественников, при этом осмысляя себя художником XX века. Он приглашает их в соавторы, пишет так, как могли бы писать они, будучи перенесенными в XX век.
В поэме «Бесплодная земля» обнаруживаются различные переплетающиеся уровни повествования: первобытная культура, литературный миф, Античность, средневековая культура, Возрождение, барокко, сентиментализм, романтизм, символизм[97].
Рассмотрим на примере одного из ключевых эпизодов поэмы принцип аналитической работы Элиота. Это небольшой отрывок из главы «Огненная проповедь»:
The river tent is broken: the last fingers of leaf
Clutch and sink into the wet bank. The wind
Сrosses the brown land, unheard. The nymphs are departed.
The river bears no empty bottles, sandwich papers,
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends
Or other testimony of summer nights. The nymphs
are departed,
And their friends, the loitering heirs of city directors,
Departed, have left no addresses.
By the waters of Leman I sat down and wept…
Sweet Thames, run softly till I end my song,
Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.
But at my back in a cold blast I hear
The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear[98].
Речной шатер опал; последние пальцы листьев
Цепляются за мокрый берег. Ветер
Пробегает неслышно по бурой земле. Нимфы ушли.
На реке ни пустых бутылок, ни пестрых оберток,
Ни носовых платков, ни коробков, ни окурков,
Ни прочего реквизита летних ночей. Нимфы ушли.
Их друзья, шалопаи, наследники директоров Сити,
Тоже ушли и адресов не оставили.
У вод леманских я сидел и плакал…
Милая Темза, тише, не кончил я песнь мою,
Милая Темза, тише, ибо негромко я и недолго пою,
Ибо в холодном ветре не слышу иных вестей,
Кроме хихиканья смерти и лязга костей[99].
Перед нами картина увядания природы с приходом осени. Это урбанистический пейзаж, наполненный реалиями современного мира и увиденный современным человеком. Место действия конкретизировано: герой находится на берегу Темзы, у газового завода где-то на окраине Лондона. Уже при самом поверхностном взгляде на текст очевидно, что все конкретные детали предельно обобщены в гигантский декристаллизованный символ. Персонаж ощущает себя в царстве смерти, где он слышит стук костей и хихиканье мертвецов. Реалии, традиционно репрезентирующие жизненное начало (земля, вода, листья, нимфы), полностью утрачивают ее. Существенно, что при внешней «реалистичности» изображения, которую у Т. С. Элиота находили многие критики, эти образы выглядят спроецированными на плоскость. Картина природы, открывающая «Огненную проповедь», больше напоминает сцену со статичными декорациями. Более того, сцена оказывается пустой, словно актеры, отыграв свои роли, покинули ее и унесли с собой предметы, которые ее заполняли.
Элиот не пытается назвать пустоту, а описывает ее через отсутствие предметов и людей на отрезке пространства:
На реке ни пустых бутылок, ни пестрых оберток,
Ни носовых платков, ни коробков, ни окурков,
Ни прочего реквизита летних ночей. Нимфы ушли.
Интересно, что перечисленные предметы неизменно связаны с деятельностью человека. Последний стремится обжиться в мире, считая его пустым, и заполнить его вещами, сделать реальность продолжением своего, сугубо человеческого «я» (чувственности), навязать ей свою волю. Однако мир не является пустым изначально. Он – порождение божественной воли. Соответственно, деятельность человека по освоению мира, попытки освоить мир исходя из человеческих стремлений, выглядят ложными. Человек не вносит в действительность смысл, не упорядочивает ее, а, напротив, опустошает бытие, загромождая пространство вокруг себя лишенными подлинного значения предметами, симулякрами, оболочками, не имеющими сущности. Тем самым природа лишается своей сакральности. Душа покидает ее («нимфы ушли»).
Ощущение декоративности эпизода, описания природы как сценического пространства во многом усиливается благодаря многочисленным цитатам, аллюзиям, реминисценциям, смешению реалий различных языков и культур, на которое читатель сразу же обратит внимание. Эти чисто формальные свойства объясняются рефлективной стратегией автора «Бесплодной земли». Элиот препарирует речь лирического субъекта, показывая, как она сделана, каким образом появились конвенции, которые он использует. Выявляются этапы ее становления, в ней обнаруживается присутствие языков, ее сформировавших, и различных форм ментальности, остатки которых сохраняет современное сознание (сознание лирического субъекта). Эти языки, стили, тексты, культурные блоки, формы ментальности также препарируются Элиотом. Будучи фиксированы в пределах одной цитаты, аллюзии, образа или даже слова, они тем не менее взаимосвязаны уже на уровне фразы, демонстрируя движение, прорастание одного текста из другого. Выявляются условность, сконструированность конвенций. Следствием такого рода критической стратегии становится многоуровневая структура повествования, где каждый уровень соответствует определенному языку и определенному типу ментальности. Кроме того, каждый уровень вносит комплекс мотивов, которые затем моментально кодируются на другом уровне и репрезентируются уже в других знаках.
Первые четыре строчки соединяют ренессансные и романтические конвенции в описании природы. Это очевидно в построении фраз, реалиях, образах, привлекаемых лирическим субъектом. Важнейшим указателем на данные традиции становится маркированная цитата из поэмы Э. Спенсера «Проталамион»: «Sweet Thames, run softly till I end my song». В случае «Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long» к ней добавляется измененная цитата из фрагмента С. Т. Кольриджа «Кубла Хан». Уже то обстоятельство, что две традиции, языки двух эпох объединяются на уровне одного абзаца и даже одной фразы, заставляет читателя увидеть здесь интерпретационную работу автора «Бесплодной земли» и почуствовать связь романтической поэзии с ренессансной: последняя подготавливает первую и имплицитно присутствует в ней. Однако главное не это. Элиот погружает читателя в конвенцию ренессансно-романтической поэзии, но не дает ему в ней «обжиться», тут же выталкивает его, заставляя увидеть, что конвенциональные механизмы работают не безупречно, и вместо реальности читатель видит декорацию, сетку поэтических условностей и штампов. Этот эффект реализуется благодаря соединению ренессансно-романтической образности и бытовых реалий современной жизни. Образ нимфы выглядит органично в контексте первых четырех строчек, где описывается осенний пейзаж. Но условность этого образа, а также обращения «Sweet Thames» и всей пасторальной атмосферы эпизода проявляется, когда лирический субъект упоминает носовые платки, коробки, окурки. Далее читатель узнает, что нимфы развлекались здесь со своими друзьями, «шалопаями, наследниками директоров Сити». Обозначение каких-то шлюх как «нимф» оказывается условным. Элиот иронически дистанцируется и дистанцирует читателя от ренессансно-романтической речи. Она выглядит нарочито приподнятой. Поэтической условностью оказываются слова «for I speak not loud or long» (ибо я говорю негромко или недолго), заимствованные из кольриджевского «Кубла Хана», одного из ключевых произведений английской романтической традиции. У Кольриджа Кубла Хан строит свой дворец «with music loud and long» (громкая и долго звучащая музыка). В тексте «Бесплодной земли» переосмысление этой фразы выявляет условность романтических конвенций. Элиот намеренно заменяет союз «и» (and) на «или» (or). У Кольриджа каждое из слов, разделенных союзом «и», обладает особым измерением и несет глубокий смысл. В «Бесплодной земле» этот подтекст, связанный с романтическим мироосмыслением, начисто утрачен: можно сказать «loud», а можно – «long», разница для лирического субъекта невелика. Романтическое слово оказывается пустым и необязательным. Два совершенно разных понятия, объединенных союзом «или», легко замещают друг друга.
В отношении романтизма, как показывает приведенный нами пример, Элиот весьма критичен. С его точки зрения, романтизм использует неточное, неопределенное слово. Это можно почувствовать, рассмотрев, как поэт работает с романтической речью, лишая ее гипертрофированной патетики. Повторюсь, что вышесказанное не означает, будто автор «Бесплодной земли» хочет высмеять великих гениев прошлого. Он лишь препарирует их поэтическую речь, пытаясь показать, по каким законам она строится.
Читатель обнаруживает, что романтический текст сформирован текстами предшествующих культур, первобытной и античной, которые составляют дополнительные уровни повествования. Первый угадывается в растительной символике, в намеке на календарный миф (смерть мира с приходом осени) и в метонимическом упоминании лирическим субъектом растительного бога («the last fingers of leaf»). Второй вводится образами нимф. На этих уровнях мы обнаруживаем важный для понимания поэмы мотив десакрализации жизни: бог, который обитал в реке, умирает, нимфы, персонификации священной сущности реки, покинули место своего обитания.
Эти уровни повествования корректируются еще одним – библейским, который вводится словом «tent» («шатер» в переводе А. Сергеева). Оно употребляется здесь также в значении «скиния». Большинство комментаторов поэмы, и в частности Б. Саузем[100], отмечают, что данный образ заимствован Элиотом из Книги пророка Исаии (Ис. 33: 20–21), где «неколебимой скинией» назван город Иерусалим. В «Бесплодной земле» скиния разрушена, а город (Лондон) и река, на которой он стоит (Темза), десакрализованы.
33-я глава Книги пророка Исаии содержит важный для понимания «Огненной проповеди» этический смысл. Человек здесь представлен как осквернитель. Он оскверняет землю, но при этом оскверняется сам, и тот огонь разрушения, который он в себе несет, уничтожит его самого: «Дыхание ваше – огонь, который пожрет вас» (Ис. 33: 11).
Идея, заключенная в Книге пророка Исаии, перерабатывается Элиотом в мотив осквернения (опустошения) – центральный мотив «Огненной проповеди». Человек предстает как осквернитель, заражающий огнем своей страсти мир, природу, которая также становится воплощением всего чувственного и греховного. Но чувственность мимолетна, она исчерпывает себя, и природа предстает опустошенной, бесплодной, утратившей былую страсть. Поэтому Темза, в образе которой представлена природа, пуста и не несет с собой даже тривиальных свидетельств чувственной любви.
Библейский уровень повествования проявляется и в словах персонажа: «By the waters of Leman I sat down and wept…» («У вод леманских я сидел и плакал…»). Эта фраза – измененное начало 137-го псалма, которое в английском переводе звучит следующим образом: «By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, / We wept, when we remembered Zion» («При реках Вавилона мы сидели / И плакали, когда вспоминали о Сионе»). Изменения, внесенные Элиотом в текст строчки псалма, обнаруживают несоответствие скорбного настроения, на которое библейский стих ориентирует читателя (и, соответственно, его стиля), реальности. Конвенции, устанавливаемые между исполнителем псалма и слушателем, перестают работать. Ожидание оказывается обманутым. Вместо Вавилона в тексте «Бесплодной земли» появляется Леман (Женевское озеро), реалия, полностью лишенная тех коннотаций, которыми наделен образ Вавилона, и обладающая совершенно иными. Слово «leman» имеет устаревшее значение «любовница» или «проститутка» (мотив греховной, чувственной любви), на которое в данном контексте, безусловно, намекает Элиот. Это снижение снимает скорбь фразы, оставляя лишь риторический каркас. Однако высокий смысл библейской цитаты остается актуальным: герой соотносится с иудеями, вспоминающими об утраченной родине. Повествование вновь возвращает читателя к элиотовскому пониманию культуры и традиции. Герой не только изолирован от жизнедарующих сил природы, но и погружен в духовное рабство. Он не осознает, что одна из причин его опустошенности – разрыв с истоками духовности, с культурной традицией. Он не помнит своих истоков и потому не завершает цитату (не «вспоминает о Сионе»). Следовательно, он не способен творить: «Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long» («Милая Темза, тише, ибо негромко я и недолго пою»).