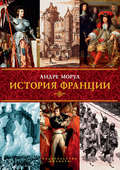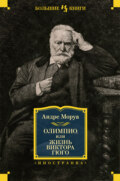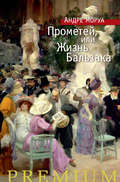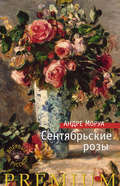Андре Моруа
Литературные портреты: В поисках прекрасного
По правде говоря, это не так уж далеко от воззрений какого-нибудь Вольтера или Дидро. Когда Ретиф вырывается из детства, его философия, по сути, такова же, как у любого человека XVIII столетия. Он верит в природную доброту поселянина, не развращенного миром и городом. Он презирает общество – то, с которым столкнулся в Париже. Его возмущают привилегии богачей, их власть над чувствами и телами бедных девушек. Он ждет, он возвещает, он хочет Революции; как я уже говорил, в нем есть нечто от Жюльена Сореля. В ожидании необходимых потрясений он предлагает реформы и в этом похож на Вольтера и Руссо. Он хочет реформировать образование, театр, орфографию, проституцию. Позже он захочет обобществления собственности, раздела земель и даже женщин. Он охотно узаконил бы кровосмешение. У Руссо, более здравомыслящего, рассудок берет верх над чувствами; Ретиф отдается своему необузданному воображению.
Но воображение приводит его к поразительным догадкам. В «Совращенной поселянке» (письмо XLVIII) он делает предположение о том, что сифилис и другие заразные болезни распространяются бактериями: по его словам, это «миазмы, мельчайшие твари, невидимые глазу зверьки, чье семя способно долго сохраняться и затем прорастать в живых телах». Он выдвинул фантастическую теорию относительно эволюции; говорил еще до Ницше о вечном возвращении; знал, что Солнечная система перемещается в пространстве; воображал летающие машины тяжелее воздуха и объявлял, что в будущем солдаты станут сбрасывать с них бомбы. Удивительное сочетание мечтателя-фантаста и писателя-реалиста. Он близок к гениальности.
Высказывалось мнение, что у Ретифа больше гениальности, чем таланта. И все же талант у него имелся. Некоторые деревенские картины (старая поселянка, ожидающая возвращения блудного сына), некоторые сцены в комнатах – в них он, пожалуй, равен великим. Но все портит, с одной стороны, его эротомания: впадая в нее, он лишается дара строить повествование, а с другой – его безудержная болтливость. Он пишет тысячу страниц там, где Флобер написал бы десять. Полный хаос, освещаемый, однако, прекрасными озарениями. «Совращенная поселянка» не трогает нас до слез, но привлекает картинами почти неизвестного нам Парижа, в которых мы чувствуем правду.
III
Лучший способ составить о нем мнение – определить расстояние между ним и теми, с кем его сравнивают. О Руссо я уже говорил: несмотря на известное сходство (откровенничанье о глубоко личном, моралистический цинизм, лиризм, тщеславие преобразователя), он, безусловно, предстает более великим, чем Ретиф. Вслед за Валери я сознаюсь, что предпочитаю «Новую Элоизу» «Совращенной поселянке», не из-за притягательности повествования (в этом Ретиф зачастую превосходит его), но из-за качеств его героев. Можно возразить, что Ретиф желал описывать маленький мир, свой мир, которым пренебрегал Руссо. Пожалуй, так – но это вопрос достоинств души и стиля.
От Лакло он отстоит не так далеко, хотя разрыв все же велик. Мы уже приводили фразу: «Лакло – Ретиф для хорошей компании». Да, Лакло перемещает Годэ д’Арраса в большой свет и делает из него Вальмона или скорее маркизу де Мертей. Цинизм «Опасных связей» более откровенный, отрицаемый не так приторно, как в «Поселянке». Президентша де Турвель не столь идеальна, как Колетт Парангон; в ней есть комичные черты, а ее добродетель не так всеобъемлюща. Сесиль де Воланж стоит выше всех персонажей, нарисованных Ретифом. Стиль ровнее и чище. Одним словом, Лакло – более значительный писатель, но он жил позже Ретифа и, наверное, научился многому у своего предшественника.
Перейдем к Жерару де Нервалю, который чрезмерно восхищался Ретифом, – что удивляет, если вспомнить о разнице в их темпераментах, – и посвятил ему чудесную книгу: «Исповедь Никола». Здесь есть некое недоразумение. Поскольку детство Никола в Саси напоминает сцены из «Сильвии»[99], поскольку Ретиф считал себя влюбленным в актрису, как Нерваль в Женни Колон, поскольку и тот и другой верили в переселение душ, Жерар признавал родство их талантов. «Поразительно, что чувственный, циничный Ретиф в конечном счете повлиял на развитие безумного и великолепного воображения Нерваля, приведшего его к христианской вере. И однако это так». Прибавим, что в Ретифе-подростке, возможно, угадывался Нерваль – вскоре убитый эротизмом.
Вспомним слова Поля Бурже: «Питекантроп, из которого развился Бальзак». Несомненно, в Бальзаке есть кое-что от Ретифа, последний подготовил публику к реалистической и «народной» литературе, совершенно отличной по сюжетам и стилю от классической литературы. Аббат Прево и Ретиф, возможно, дали Бальзаку не меньше, чем Фенимор Купер и Вальтер Скотт. Вотрен, дающий советы Люсьену де Рюбампре, напоминает Годэ д’Арраса, дающего советы Эдмону. Но в Бальзаке несравненно больше силы. Ретиф был неспособен создать Вотрена или Гобсека. Он слишком занят собой, чтобы давать свою душу взаймы прекрасным чудовищам. Можно пожалеть, что он не заставил госпожу Парангон написать Эмиону письмо с наставлениями, достойное того, которое послала Феликсу де Ванденесу госпожа де Морсоф[100]. С учетом этих оговорок остается неоспоримым, что Ретиф – один из создателей народного романа во Франции и что его отступления социального и философского толка предвещают бальзаковские.
Мы знаем, что Флобер читал Ретифа, – так как заимствовал у него песню слепца для «Госпожи Бовари», – но стилист в нем не мог восхищаться этими бурными излияниями. На самом деле Флобер воплощает в себе реакцию художников слова на реалистический роман, линия которого идет от Ретифа к Бальзаку. Ретиф сел бы в фиакр к госпоже Бовари; Флобер довольствуется тем, что видит обнаженную руку, приподнимающую занавеску, и белые клочки бумаги, разлетающиеся по ветру. Что касается Жида, я уже отметил возможное сходство: детская набожность, смятение чувств, добродетель и бесовщина уживаются в одной личности, роль Меналка в «Имморалисте» похожа на ту, которую играет Годэ. На этом общее заканчивается. Жид – крупный буржуа в той же мере, в какой Ретиф простолюдин; Ретиф счел бы чувственность Жида противоестественной; когда Жид проявляет цинизм, он больше напоминает автора «Опасных связей», чем автора «Поселянки».
IV
Конец Ретифа-человека был жалким. Революция, которую он призывал, обернулась для него преследованиями и нищетой. Разврат имел последствиями обычную череду недугов. Он был отпет, «совершенно по-христиански», 3 февраля 1806 года в Нотр-Дам, его приходской церкви; тысяча восемьсот человек проводили его на кладбище. «Пребывание в аду, – пишет Марк Шадурн, – для него закончилось». Но сочинения остались. Вот уже полтора века они беспрестанно переиздаются и исследуются. И не только потому, что автор без стеснения говорит обо всем. «Поселянка», только что перечитанная, показалась мне мало целомудренной, но нисколько не скабрезной и куда менее шокирующей, чем какой-нибудь роман, написанный в наши дни молодой женщиной и едва не получивший премию от жюри, составленного из богатых вдов. Впрочем, будь скабрезность гарантией долговечности, многие сочинения, сегодня не находящие читателей, пережили бы свое время.
Это длительное расположение публики объясняется более вескими причинами. Прежде всего тем, что роман, подобный «Поселянке», – одно из редких правдивых изображений народного, разгульного Парижа, его улиц, притонов, эспланад, домов терпимости. В книге чувствуется талант. В ней много страниц, но читать ее не скучно. Стиль не взят у Дидро, а принадлежит самому Ретифу, и он лучше, чем у более почтенных писателей, отличавшихся примерной жизнью и примерными нравами. «Совращенные поселянин и поселянка» – один из лучших романов XVIII века. Наконец, в нем есть поэзия и переживания. Они порождены правдой этой книги, во многом автобиографичной. Жюль Ренар в своем дневнике признается, что именно воспоминания Ретифа о детстве подали ему идею описать любовные чувства Рыжика[101]. Правда восхитительна и неподражаема. Страсть Ретифа к женщинам была подлинной. «В этом секрет его жизни и его гения, его величия и его упадка». Однажды он написал: «Если только юные портнихи, белошвейки, законодательницы мод, которым понравились другие мои романы, прочтут еще и этот, я буду доволен и брошу вызов всем умникам».
В те времена, как он того и желал, его читали белошвейки и портнихи; он вряд ли сохранил их расположение, но удержал при себе умников. Бенжамен Констан зачитывался его романами. Шиллер настойчиво рекомендовал Ретифа Гёте, который оценил его и выразил желание познакомиться. Бодлер писал своему издателю Пуле-Маласси: «Где же Ретиф, у которого столько чудесных, пленительных отрывков?» Реми де Гурмон[102] считал, что его исповедь правдоподобнее, чем исповедь Жан-Жака. И Поль Валери, как мы видели, ставил его выше Жан-Жака – проявив великодушие, но хватив через край. Эмиль Анрио[103] относил его к второстепенной литературе – но к самой что ни на есть первоклассной. Ну а мы…
Кто бы мог подумать в 1784 году, что у автора «Совращенной поселянки» будут читатели в 1984-м? Однако они будут. Ведь то, что естественно, нисколько не стареет.
Лакло. «Опасные связи»[104]
Перед вами книга с довольно странной судьбой. Она очень известна и считается одним из прекраснейших французских романов. И в то же время место, занимаемое ее автором в истории литературы, незначительно, практически ничтожно. Сент-Бёв, повествующий даже о писателях никому неведомых, едва уделяет ему пару строк; Фаге, чьи критические этюды посвящены крупнейшим авторам XVIII века, пренебрегает им вовсе. Другие хоть и отдают должное «Опасным связям», но считают книгой скверной, едва ли не источающей серный запах. Жид похваляется любовью к ней так, словно не без гордости признается в дружбе с дьяволом.
Неужели же роман действительно до такой степени скандальный? Повествование выдержано в немного холодной, отстраненной манере, напоминающей язык Расина и де Ларошфуко, а иногда даже (я мог бы привести наглядные примеры) язык Боссюэ.
Автор не прибегает к обсценной лексике и при описании откровенных сцен проявляет осторожность, которая зачастую удивила бы наших современников. В сравнении с хотя бы одной страницей из Хемингуэя, Колдуэлла, Франсуазы Саган Лакло предстает писателем для чистых душой.
Так почему же строки его книги вызывали одновременно обожание, страх и возмущение? Именно это нам и предстоит объяснить.
I. Автор
Лакло – или чаще Шодерло де Лакло – один из тех писателей, которые обязаны своей славой лишь одной книге. Однако после «Опасных связей» многое остальное едва ли будет совершенно забыто. Он обладал дерзновенным духом Стендаля, всегда готовым к любым опасностям, но был человеком замкнутым и казался современникам странным. Мы знаем, что по натуре он был холоден и умен, но не любезен – «высокий и худой господин с желтоватым цветом лица, по обыкновению одетый в черное». Сам Стендаль, повстречавшийся с Лакло ближе к концу его жизни, вспоминал, как увидел пожилого генерала артиллерии в ложе губернатора Милана, «коего… почтительно приветствовал как автора „Опасных связей“».
Казалось, ничто не располагало молодого лейтенанта Лакло создать нового французского Ловеласа. С 1769 по 1775 год он служил офицером в Гренобле, в одном из французских гарнизонов, где проводил время, нимало не скучая. Здесь он наблюдал за жизнью местных дворян, чьи нравы были весьма фривольны. «Молодые люди, получая деньги от своих богатых любовниц, тратили их на прекрасные наряды и содержание бедных возлюбленных». Однако сам Лакло не проявлял склонности к такому образу жизни. Один из его биографов утверждает, что, подобно тому как Стендаль служил на войне интендантом, Лакло «служил» в разведывательном управлении на любовном фронте. Он любил беседовать с дамами, выслушивая их откровения, – ведь дамы охотнее доверяют свои тайны стороннему наблюдателю, чем великому завоевателю сердец, и только ждут приятного случая поведать подробности своих любовных историй. Генри Джеймс и Марсель Пруст, даже Лев Толстой извлекали большую пользу из подобной женской болтовни. Порой из маленьких сплетен рождаются великие романы.
Лакло был большим поклонником Руссо и Ричардсона. Он множество раз перечитывал «Клариссу Гарлоу», «Новую Элоизу» и «Тома Джонса». Это помогло ему изучить технику написания романа. В Гренобле не было недостатка ни в интересных персонажах, ни в занимательных историях. Так, маркиза де ла Тур дю Пин-Монтобан, как считается, послужила прототипом маркизы де Мертей. Если рассматривать «Опасные связи» как правдивый портрет аристократии Гренобля XVIII века, то, вероятно, она была ужасающе порочной. Но часто романисты выдают за обычаи века то, что по сути является лишь «историями о паре десятков хлыщей и шлюх». В то время как остальные горожане вели тихую и размеренную семейную жизнь, горстка циников и либертинов заполняла салоны и страницы прессы россказнями о своих блестящих авантюрных похождениях.
Стоит отметить, что, хотя Лакло по счастливой случайности и получил дворянство, он не любил «высший свет» и с удовольствием разоблачал его пороки. В 1782 году Революция уже зрела во многих умах, возмущенных несправедливостями и притеснениями. Бедный офицер вроде Лакло, должно быть, питал неприязнь к знатным господам, военная карьера которых складывалась неоправданно легко. Лакло, в надежде снискать военной славы, желавший отправиться в Америку с Рошамбо[105], получил отказ: эти позиции были оставлены для представителей знатнейших фамилий – Сегюр, Лозен, Ноай. «Опасные связи», в сущности, явились для мира литературы тем же, чем для театра – «Женитьба Фигаро»: памфлетом против безнравственного могущественного привилегированного класса. Лакло избегает рассуждений о политике, но читатель волен делать определенные выводы.
Книга наделала много шуму. При жизни автора было осуществлено около 50 изданий романа. Публика жаждала раскрыть тайну, кто скрывается за именами персонажей. В то время, когда знать была одержима революционными идеями не менее буржуазии, взрыв этой бомбы восприняли восторженно. Занятно, что любой прослойке общества – будь то дворянство или буржуазия – более интересны те, кто ее хулит, чем те, кто осыпает похвалами. Все, от Версаля до Парижа, желали познакомиться с автором. Командующий полком, в котором служил Лакло, был обеспокоен: один из его офицеров – романист и циник? Как это несерьезно… Но Лакло был прекрасный артиллерист – артиллерия прежде романов!
Некоторые сожалели о том, что автор чересчур сгустил краски, однако отмечали тонкое понимание человеческих страстей, мастерски закрученную интригу, искусство создания незабываемых персонажей и естественность стиля повествования. Поразительно, что после оглушительного триумфа столь талантливый романист перестал писать вовсе. Этот истинный знаток человеческих душ продолжал вести непримечательную жизнь провинциального офицера. Еще более удивительно, что этот повеса, этот Макиавелли чувств женился и стал верным и любящим супругом. В возрасте сорока трех лет он приметил молодую девушку из Ла-Рошели, мадемуазель Соланж-Мари Дюпере, сестру адмирала Франции. Прочитав «Связи», она сказала: «Никогда нога господина де Лакло не ступит на наш порог!» Лакло ответствовал: «По истечении шести месяцев я женюсь на мадемуазель Дюпере».
Он действует, как виконт де Вальмон, герой «Связей». Он соблазняет Соланж Дюпере, и она беременеет от него. Он «исправляет» ситуацию, в дальнейшем женившись на ней, и становится – уже совершенно не в стиле Вальмона – сентиментальнейшим из мужей. «Вот уже двенадцать лет, – пишет он жене, – как я обязан тебе своим счастьем. Прошлое – залог будущего. Я с огромным удовольствием вижу, что наконец ты чувствуешь себя любимой, однако позволь мне сказать, что ты могла быть в этом уверена все двенадцать совместных лет». Он хвалит жену за то, что она «великолепная любовница, прекрасная супруга и нежная мать». Располнела ли она? «Да, но тебе это только к лицу!»
Вот такой счастливо женатый Ловелас. Он даже задумал написать роман, в котором основной мыслью выводилось бы, что счастье возможно только в семье. Однако сложность увлечь читателя произведением без романтических коллизий заставила его отказаться от замысла. Наверное, это было верное решение, поскольку о благополучной семейной жизни получаются неважные романы. Андре Жид радовался, что Лакло оставил идею романа, столь несвойственную его гению, сомневаясь, что замечательно одаренный создатель «дьявольских персонажей» мог искренне любить добродетель.
«Нет никаких сомнений, – пишет Жид, – что Лакло идет рука об руку с сатаной». Я не так уж в этом уверен. Скорее всего, Лакло попросту понял, что сатана поможет ему снискать популярность. Вот слова самого Лакло: «Написав пару-тройку стихотворений и изучив ремесло, однако не принесшее мне большого успеха, я решился на сочинение, которое выходило бы за рамки повседневности, наделало бы много шуму и гремело бы даже тогда, когда сам я уже покину эту землю». Такова была его цель, и он достиг ее.
Виконт де Ноай, почитатель таланта Лакло, представил писателя герцогу Орлеанскому, который пожаловал тому должность секретаря личных поручений. Во времена Революции Лакло фактически управлял принцем (насколько возможно было управлять столь переменчивым умом) и плел поистине дьявольские интриги против короля и королевы. Герцог надеялся свергнуть своих суверенов, опираясь на поддержку народных масс, и стать регентом. Лакло поддерживал его в этом решении и старался помогать во всем.
Его тайные страсти еще явственнее свидетельствуют о стремлении руководить. Он вступил в Якобинский клуб и стал одним из самых влиятельных его членов. В 1792 году Дантон отправляет его в армию для надзора за престарелым маршалом Люкнером[106], чтобы предотвратить позорное дезертирство этого солдата-чужестранца. Лакло, превосходный офицер, реорганизовал армию и подготовил условия для победы при Вальми. Но дальнейшее предательство его командира генерала Дюмурье[107] бросало тень и на Лакло – вскоре он был арестован.
Девятое термидора (казнь Робеспьера и конец Террора) спасло его от казни гильотиной. Назначенный бригадным генералом при Бонапарте, он командовал артиллерией Рейнской армии, а затем Итальянской. В 1803 году, когда Лакло служил в составе корпуса Мюрата в Неаполе, ему поручили оборону Таранто. Здесь он и умер от дизентерии.
Так сложилась уникальная карьера этого талантливого солдата, который, однако, прославил свое имя тем, что создал шедевр литературы.
II. Роман и персонажи
Вполне естественно, что почитатель Клариссы Гарлоу задумал написать именно роман в письмах. Сама форма эта несколько искусственна, ведь в жизни самое важное происходит в разговорах и делах. Но в письмах их можно пересказать и живописать. Письма позволяют автору блеснуть мастерством тонких наблюдений. В письме есть и прямое изложение событий, и то, о чем пишущий пытается умолчать. Письмо выдает и разоблачает. Лакло очень гордился разнообразием стилей, одолженных им своим персонажам. Но на самом деле оно не так уж исключительно, как казалось автору. Все его герои безупречно выражают свои мысли на прекрасном французском XVIII века – когда молодая девушка, едва покинувшая монастырь, обладала настолько изящным слогом, что могла бы посрамить современных нам писателей.
В книге противопоставлены две группы персонажей: хищники и жертвы. Хищники – это маркиза де Мертей, знатная дама-либертинка, циничная и вероломная, она, не колеблясь, когда есть причины для мести, нарушает все правила, которые для иных составляют мораль; и виконт де Вальмон – профессиональный донжуан, опытный покоритель женских сердец, беспринципный, часто ведомый госпожой де Мертей, периодически восстающий против нее. Жертвы – это президентша де Турвель, красивая, набожная и чопорная супруга буржуа, которая стремится к тихой семейной жизни; Сесиль де Воланж, неопытная, но, сама того не осознающая, чувственная молодая особа, которую без ее согласия мать желает выдать за «престарелого» графа де Жеркура (ему тридцать шесть лет), влюбленная в шевалье Дансени; и наконец, сам Дансени, которого, вовсе не питая к нему нежных чувств, соблазняет и делает своим любовником госпожа де Мертей.
Связи между этими персонажами весьма многочисленны и крайне запутаны. Жеркур хочет жениться на юной Воланж, до этого он был любовником госпожи де Мертей и предал ее. Она жаждет отомстить и намеревается использовать Вальмона, который также был ее любовником в прошлом, но теперь остается ее другом. Отношения Вальмона и госпожи де Мертей абсолютно лишены лицемерия. Некогда они наслаждались друг другом и, возможно, однажды снова станут любовниками, однако случится это не по велению страсти, которой здесь нет места. Они вступают в сговор, подобно настоящим преступникам, – не доверяя друг другу, но отдавая должное профессиональному мастерству.
О чем просит госпожа де Мертей? Пусть Вальмон соблазнит юную Сесиль и станет ее любовником до свадьбы с Жеркуром. Таким образом, Жеркур будет выглядеть дураком в глазах всего высшего света; более того, услуга, о которой просит госпожа де Мертей, совсем не неприятна. Сесили пятнадцать лет, и она очень привлекательна; почему бы не срезать этот розовый бутон? Вальмон поначалу не испытывает большого энтузиазма. Соблазнить наивную и неопытную девушку, которая ничего не видела в жизни? Предприятие, не слишком достойное его талантов. Он занят иной авантюрой, которая сулит ему больше славы и удовольствия, – завоеванием неприступной, целомудренной и суровой президентши де Турвель. Заставить уступить эту воплощенную добродетель – вот цель, к которой он стремится. Его стратегия заключается в том, чтобы говорить с ней не о любви, но лишь о религии. В надежде наставить его на путь истинный она соглашается принять его у себя. Дьявол во плоти обращается отшельником. Отшельник постарается поскорее стать любовником.
Вскоре все три сюжетные линии причудливо переплетаются. Юный Дансени, попав в немилость к матери Сесиль, поручает Вальмону доставить ей любовные послания. Перспектива обмануть доверие друга добавляет некоторой остроты соблазнению невинной девушки. Теперь Вальмон и сам желает юную Сесиль. Под предлогом необходимости вручить ей письма Дансени он проникает в спальню девушки, крадет поцелуй, а за ним еще один, и еще. И вот он любовник очаровательной девицы, которая даже не понимает, что с ней произошло: тело ее принимает ласки Вальмона, но сердце отдано Дансени.
Этот успех, однако, не мешает Вальмону продолжать завоевание несчастной президентши Турвель. Наконец ему выпадает случай решительно объясниться. Она пытается бежать, но сопротивление лишь распаляет азарт Вальмона.
У него есть все основания праздновать победу, поскольку бедная женщина уже почти потеряла голову от любви. Но как сделать победу окончательной? Нет ничего лучше старых испытанных приемов. Вальмон изображает отчаяние. Он выказывает желание уйти в монастырь. Госпожа де Турвель вновь вынуждена принять его у себя. «Обладать вами либо умереть!» – провозглашает он и, когда она все-таки предпринимает слабую попытку ускользнуть, произносит, понизив голос до зловещего шепота: «Итак, значит, смерть!»[108] Без чувств она падает в объятия Вальмона. Он победил.
Жертвы съедены. Но вот пробил час расплаты и для виновных. Президентша Турвель уверена, что своим падением она сможет обеспечить спасение души Вальмона. Кажется, он вполне искренне в нее влюблен. Но разве допустит маркиза де Мертей торжества добродетели или подлинного чувства? Она насмехается над Вальмоном и бросает ему вызов, принуждая немедленно порвать с президентшей Турвель и вернуться к ней. Этот вызов возбуждает азарт Вальмона; он бросает президентшу и пытается вернуть маркизу. Из чистого тщеславия он покидает прелестную женщину, которую только что с таким усердием добивался, и адресует ей неслыханное по своей жестокости письмо – продиктованное госпожой де Мертей. Лишившаяся иллюзий и отчаявшаяся госпожа де Турвель не имеет сил преодолеть отвращение к самой себе и вскоре умирает, истерзанная угрызениями совести.
Однако госпожа де Мертей ссорится с Вальмоном и открывает Дансени правду о Сесили де Воланж. Дансени бросает Вальмону вызов и убивает его на дуэли. Обесчещенная Сесиль отправляется в монастырь. Госпожа де Мертей остается одна. Но и она будет жестоко наказана. Судебный процесс, который должен решить судьбу всего ее состояния, проигран, она разорена. Она заболевает оспой, но выживает – обезображенная, потеряв глаз и поистине внушающая отвращение.
«О великая Немезида!» – воскликнул лорд Байрон. «Как можно без содрогания помыслить о бедствиях, которые способна причинить хотя бы одна опасная связь!» – так заканчивается это ужасно аморальное моралите. Сцена завалена трупами. На ум невольно приходит концовка Гамлета.
III. Любовь – война
Неужели подобная мрачная история могла случиться на самом деле? Несомненно, нравы того времени были весьма свободными. Супруги из высшего общества виделись редко. Они жили под одной крышей – вот, пожалуй, и все. Подлинное чувство было редкостью – это считалось смешным и нелепым. При виде пылких влюбленных окружающие испытывали «неловкость и скуку». Такое поведение противоречило правилам. В этой неограниченной свободе нравов представления о морали терялись, – что, конечно, было на руку обществу в целом: «По словам Безенваля[109], флирт между мужчинами и женщинами поддерживал в нем бодрость духа и ежедневно доставлял рассказы о пикантных похождениях». Здесь не было места ревности. «Мы влюбляемся, забавляемся друг с другом, расстаемся и… начинаем все сначала».
Означенная вакханалия, надо сказать, происходила довольно скрытно. На публике все – манеры, жесты, наружность – выглядело прилично. Свобода поведения никогда не проявлялась в словах. «У Лакло даже в самые игривые моменты персонажи говорят языком Мариво». Внешне все было безупречно. Муж, неожиданно заставший жену с другим, нежно говорил ей: «Какая неосторожность, мадам! А если бы это оказался кто-нибудь другой, а не я…» Английское высшее общество, впрочем, было немногим более брезгливо, чем французское. Вальмон – это своего рода Байрон, который, к слову, был знаком с произведением Лакло и старался подражать его герою. Перечитайте переписку Байрона и леди Мельбурн. Вы обнаружите, что они обсуждают любовные похождения в том же тоне, что и госпожа де Мертей и Вальмон. Обоим свойственно то же циничное, равнодушное отношение к своим жертвам, и занимает их техника, а не сантименты. Какие слова, какие поступки заставят женщину уступить? Тактические схемы, никакой любви. Разница лишь в том, что Байрон все же менее безжалостен, нежели Вальмон. Ему случается и пощадить понравившуюся женщину, уже почти оказавшуюся у него в руках, – как это было с леди Фрэнсис Уэбстер. Ему также случалось включаться в игру всем сердцем. Байрон совращает свою единокровную сестру Августу, но тут он действительно влюблен.
Маркиза де Мертей, напротив, не признает ни жалости, ни любви. Сам Вальмон – также без малейших угрызений совести – ломает жизнь невинной Сесиль. Разве это естественно, разве может человек быть настолько жесток? И мыслима ли подобная жестокость в любви, которой свойственно пробуждать в душе нежность и привязанность к партнеру? В этом как раз и есть драма Дон Жуана, героя бесчисленных литературных произведений, покорителя женских сердец.
Как формировался образ Дон Жуана? Почему столь безжалостен Вальмон? История жизни Байрона немного проливает свет на эти вопросы. Байрон был сентиментальным и нежным влюбленным до того дня, пока первая его любовь не предала его. Всю свою дальнейшую жизнь он будет мстить женщинам за это предательство.
В его похождениях им руководили более тщеславие и жажда реванша, нежели желание. Вальмон же подобен тем диктаторам, которые нападают на беззащитные страны, чтобы продемонстрировать всему миру свою отлично подготовленную армию. Его словарь – это словарь солдата, геометра, стратега, но никогда – влюбленного. «Доселе, прелестный друг мой, Вы, я думаю, признавали за мной такую безупречность метода, которая доставит Вам удовольствие, и Вы убедитесь, что я ни в чем не отступил от истинных правил ведения этой войны, столь схожей, как мы часто замечали, с настоящей войной. Судите же обо мне как о Тюренне или Фридрихе. Я заставил принять бой врага, стремившегося лишь выиграть время. Благодаря искусным маневрам я добился того, что сам выбрал поле битвы и занял удобные позиции, я сумел усыпить бдительность противника, чтобы легче добраться до его укрытия. Я сумел внушить страх еще до начала сражения. Я ни в чем не положился на случай, разве лишь тогда, когда риск сулил большие преимущества в случае успеха и когда у меня была уверенность, что я не останусь без ресурсов в случае поражения. Наконец, я начал военные действия, лишь имея обеспеченный тыл, что давало мне возможность прикрыть и сохранить все завоеванное раньше».
Любовник, подобный Вальмону, – подлинный стратег. Его также можно сравнить с матадором. Падение женщины, оказавшейся в полной его власти, равносильно ее смерти. Для тех жертв, которые не согласны уступить добровольно, – таких как малютка Сесиль или президентша Турвель, – у него наготове искусно расставленные сети. Это всегда драматичная игра. Подобно тому как матадор не любит сражаться с больным и слабым зверем, донжуан вроде Вальмона находит удовольствие в яростном противостоянии и зрелище слез. Или, заимствуя образ из иной области: «Предоставим жалкому браконьеру возможность убить из засады оленя, которого он подстерег: настоящий охотник должен загнать дичь <…> Мне мало обладать ею – я хочу, чтобы она мне отдалась».
«Я хочу». Речь идет об утверждении своей воли. Внимательно прочитайте 81-е письмо, где госпожа де Мертей рассказывает Вальмону о своей жизни. Это пример существования, спланированного до мельчайшей детали. Малейший жест, выражение лица, голос – маркиза неустанно контролирует все. Против любовников у нее всегда есть неотразимые козыри, способные погубить их репутацию: «…я умела, заранее предвидя разрыв, заглушить насмешкой или клеветой то доверие, какое эти опасные для меня мужчины могли приобрести». Читая это примечательное – и ужасное – письмо, мы вспоминаем свирепых дипломатов Возрождения либо героев Стендаля. Но мужчины и женщины Возрождения закаляли волю во имя утверждения власти. У маркизы Мертей и Вальмона, равно как и у их последователей, лишь одна цель: сексуальные утехи – иногда как средство для утоления жажды мести.