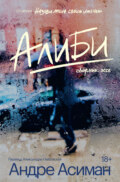Андре Асиман
Homo Irrealis
В тени Фрейда
Часть 1
Этим летом я опять оказался в Риме. Оказался потому, что мне сказали: не исключено, что мне все-таки удастся попасть на виллу Торлония, некогда известную как вилла Альбани, и есть надежда, что я своими глазами увижу статую Аполлона Сауроктона, Аполлона истребителя ящериц, изваянную легендарным афинским скульптором IV века Праксителем, – причем оригинал. Мне не впервые приезжать в Италию в смутной надежде увидеть эту статую. Пока все попытки проваливались, отсюда мой сдержанный скептицизм. Торлония никогда не любили показывать чужим свою виллу, а уж тем более свои ценнейшие антики, иные из которых попали на виллу благодаря ловкой руке секретаря кардинала Альбани Иоганна-Иоахима Винкельмана, ученого, археолога и отца современной истории искусств, родившегося в 1717-м и убитого в 1768-м. Это третья поездка в Рим с целью увидеть статую, и я сильно опасаюсь, что и она окажется безрезультатной. Мне вспоминается Фрейд, который при каждом визите в Рим обязательно ставил себе задачу увидеть «Моисея» Микеланджело – и ни разу не потерпел неудачи.
Порой мне нравится думать, что в Риме я передвигаюсь по следам Фрейда: отель «Эдем», музеи Ватикана, Пинчо, Сан-Пьетро-ин-Винколи. Мне по душе налет ученой серьезности, которую придают моим пребываниям в Риме упоминания Фрейда; налет этот как бы прикрывает то, за чем я сюда приехал на самом деле, интерес к городу перестает восприниматься так остро, так тревожно, так первобытно и лично. Посмотрев на Караваджо на Пьяцца-дель-Пополо, я сажусь за столик в кафе «Розати» и заказываю чинотто. В конце концов, ведь именно на этой пьяцце восторженный Гете осознал, что он наконец-то в Риме.
Я в Риме, но я что-то не очень удивлен, да и восторжен не так сильно, как рассчитывал. Может, это лишь окольный способ попросить Рим о том, чтобы он удивил меня чем-нибудь новым, или забытым, или чем-то, что разом включит во мне полное осознание возвращения в город, который я – это я знаю точно – люблю, хотя любовь эта не всегда отыскивается сразу, приходится ее нашаривать, точно старую перчатку в ящике шкафа, где лежат носки. Целый год я жил в предвкушении этого утра в кафе «Розати», зная, что закажу там чинотто, куплю газету и позволю мыслям побродить между Винкельманом, Гете и статуей Аполлона (я продолжаю опасаться, что никогда ее не увижу). Но вместо этого что-то меня удерживает и заставляет подумать о Фрейде, который научился любить Рим и чувствовал себя здесь дома. Я тоже хочу себя так почувствовать. Хочу насладиться моментом, ощутить, что я здесь свой. Но как этого достичь, непонятно. Я даже не уверен, что мне хочется чувствовать себя здесь своим. Что-то мне говорит, что на самом деле я приехал сюда думать про Фрейда, а не про Аполлона Сауроктона, Торлония или Винкельмана. Впрочем, и в этом я не уверен тоже. Может, я здесь потому, что мы с Римом так и не завершили одно деловое предприятие, затеянное еще когда я был подростком. Впрочем, если подумать, Фрейд и к нему имеет определенное отношение.
* * *
Фрейд наконец-то добрался до Рима 2 сентября 1901 года, в возрасте 44 лет. В Италии он успел побывать уже несколько раз и мог бы попасть в Рим и раньше, но его удерживало некое психологическое сопротивление, которое исследователи и биографы называют «римофобией» или «римским неврозом». Фрейд прекрасно сознавал, что от приезда в город, который, судя по всему, сильно занимал его воображение еще в младшей школе, его удерживает некое глубинное вытеснение. В юности Фрейд был прекрасно начитан и, как многие венские школьники, не только отлично знал классику и античную историю, но и очень любил античное искусство. Он знал римские памятники, увлекался археологией и, надо думать, полюбил Рим и Афины задолго до того, как попал в оба эти города. И все же, как известно нам – и как было известно ему самому, – имелось некое препятствие.
Фрейд пытался осмыслить причину своей фобии, но объяснение его грешит крайней поверхностностью. Исследователи и биографы предлагают фрейдистские или псевдофрейдистские интерпретации личности Фрейда: они берут материал из его переписки и из «Толкования сновидений» и пытаются понять, чем же был Рим для сорокачетырехлетнего венского доктора. Теории есть самые разные – от правдоподобных до вымученных и откровенно дурацких. Некоторые считают, что давнюю мечту о посещении Рима Фрейду-де не хотелось воплощать в жизнь потому, что он слишком долго тешился этой мечтой и оберегал ее от соприкосновения с реальностью. Упрощенное не-объяснение. Другие полагают, что от самой мысли о том, сколько наслоений истории и археологии в этом городе, у Фрейда начинали сдавать нервы. Тоже так себе объяснение. Существует и множество других.
Возможно, Фрейд считал себя недостойным того, чтобы посетить идеализированную столицу западной цивилизации. А может, будучи евреем, он сомневался, нужно ли ему устремляться в самое сердце христианской веры, тем более что он обдумывал, но в итоге отверг мысль о крещении. Или, может, он пошел по стопам Гете: предпочитал Древний Рим и совсем не хотел видеть современный мегаполис, который занял бы в голове место прежнего. А может быть, все в Риме было окрашено воспоминаниями о его отце-еврее, чувством своей вины перед еврейством, ощущением, что Рим успел стать для него метафорой того, что приятно чаять, но не достигать. Другу и коллеге Флиссу он писал: «Моя тяга к Риму носит глубоко невротический характер… завеса и символ нескольких иных горячих желаний». Говоря словами биографа Фрейда Питера Гэя, Рим был для него «высшей наградой и непонятной угрозой», «важным и амбивалентным символом… [воплощавшим в себе] всю силу сокрытой эротики Фрейда и чуть менее сокрытой тяги к агрессии». Очень сильные выражения, притом что на внешнем уровне речь вроде бы идет о типичных сомнениях человека, размышляющего о том, стоит ли куда-то ехать из уютного венского дома. «Эротика»? «Агрессия»?
Фрейд знал: приехав, он откроет для себя реальный город, а не иллюстрацию из книжки-раскладушки, какие продают туристам. Скорее всего, он достаточно хорошо себя знал и боялся, что столь желанный визит не только пробудит в нем великую радость, но и вызовет разочарование или, хуже того, отчаяние или отупение. После посещения Рим утратит притягательность Рима непосещенного.
В этом отношении Фрейд далеко не одинок. За век с лишним до него Гете испытывал смутное чувство недоверчивой озадаченности, когда, северянином с горящими глазами, наконец-то добрался до Рима. Первого ноября 1786 года он писал: «Я все боялся, что это сон; только пройдя через Порта дель Пополо, я убедился, что это правда, что я действительно в Риме». Через несколько строк он добавляет: «Сбылись все мечты моей молодости; я увидел в реальности первые гравюры, которые помнил, – у отца в прихожей висело несколько видов Рима, да и многое другое, что я знал уже давно, теперь оказалось у меня перед глазами. Куда ни пойди, я находил знакомые предметы в незнакомом мире». Чтобы еще сильнее запутать дело, Фрейд предлагает собственное объяснение своей «римской тревоги», анализируя несколько своих связанных с Римом снов. Одно объяснение, на которое со всеми потрохами попадаются даже самые просвещенные и прозорливые теоретики, состоит в том, что амбициозный и боевитый еврей пытается исправить долгую историю угнетения евреев в диаспоре: Фрейд, говоря его собственными словами, становится конкистадором, победоносным освободителем. Еще одна теория, выдвинутая самим Фрейдом, состоит в том, что он, как еврей, испытывал тягу не к Риму – городу, который с античных времен до современности относился к евреям с нетерпимостью и жестокостью, – а к карфагенскому военачальнику Ганнибалу, семиту и немезиде Рима. Впрочем, и эта теория звучит не слишком убедительно, ибо не подлежащая сомнению любовь Фрейда к античной истории, литературе, искусству и археологии заставляет усомниться в его симпатиях к Карфагену. Более того, Фрейд, насколько нам известно, никогда не ездил в Карфаген, да и не высказывал такого желания. Вместо этого после первого своего приезда в Рим в 1901 году он возвращался еще как минимум шесть раз. Он прошел испытание и, пройдя его единожды, почувствовал себя вправе возвращаться в Рим до конца жизни. Его расположение к Ганнибалу выглядит уловкой, лукавством, цель которого – сбить всех со следа, возможно в том числе и себя самого. Впрочем, у Фрейда и Ганнибала имелась как минимум одна общая черта – помимо семитского происхождения и решимости упорно сражаться за то, во что они верили, имелась и еще одна подробность, прекрасно известная Фрейду: когда приближалось долгожданное мгновение, оба они с Ганнибалом останавливались у ворот Рима. Hannibal ante portas. Freud ante portas.
* * *
Колебания Фрейда заставляют вспомнить о колебаниях Гете. В «Итальянском путешествии» он пишет: «Я хочу видеть Рим – вечный, а не изменяющийся через каждый десяток лет». Что Гете имеет в виду под «вечным Римом», не вполне понятно. Идет ли речь о Древнем Риме или о чем-то еще менее уловимом – не современном, не древнем, по сути, никаком, а о совокупности всех Римов, какие существовали и будут существовать всегда? Мы этого никогда не узнаем.
Римов на деле много. Некоторые принадлежат разным эпохам и уходят вспять на две с половиной тысячи лет; другие так молоды, что до сих пор еще не получили названия. Этрусский Рим, Республиканский, Имперский, Палеохристианский, Средневековый, Ренессансный, Барочный, Рим XVIII века, Рим Ван Виттеля, Пиранези, Пуччини, Феллини, современный Рим – и много, много других. Все они до такой степени различны, что никак не могут быть одним и тем же городом. При этом все они построены внутри, под, над или супротив друг друга – порой камни одного Рима выдергивали и выкрадывали, чтобы возвести другой.
Сегодняшнему римлянину нет нужды что-либо знать о прошлом, о том, что между, скажем так, древним Римом, называющимся Агриппа, и другим, называющимся Агриппина, существуют принципиальные различия, однако даже самый недалекий чистокровный римлянин, в жизни своей не видевший Форума и Колизея и не потрудившийся почитать Вергилия, дабы выяснить, почему сливаются виа Нисо и виа Эуриало, способен догадаться, что эти улицы так или иначе связаны с прошлым. Античность здесь повсюду – и это лишь способ сказать другими словами, что, как ты ни проживай в Риме свою жизнь, время останется самой оживленной магистралью города. Даже когда ты не думаешь о времени, тебе приходится его пересекать. Ты прикасаешься ко времени, когда опираешься о стену, чтобы завязать шнурок, и понимаешь, что эта древняя обшарпанная стена уже была очень древней, когда рядом с ней стояли всякие там Гете, Байрон и Стендаль и припоминали, что, возможно, до стены этой дотрагивался сам Винкельман, а потом потирал ладони, отряхивая пыль, – и от той же пыли, возможно, отряхивал руки сам Микеланджело. Здесь все древнее, все лежит слоями; разные эпохи беспорядочно свалены в кучу, точно хлам на блошином рынке, – не отличишь одну от другой. Новое, современное, передовое всегда несет в себе следы прошлого. С людьми та же история. Римляне кажутся старыми. Дети на вид мудрее, чем им положено по возрасту, а взрослые при всей своей вздорности научились с терпимостью относиться к тому, чего в любом ином месте не потерпели бы никогда. То, что сегодня вызвало у тебя раздражение, когда-то уже произошло, происходит постоянно, наверняка произойдет снова. Рим бессмертен не потому, что в нем слишком много красоты и никто не хочет стать свидетелем ее исчезновения, а потому, что время здесь везде и нигде, здесь ничто на самом деле не умирает, все возвращается. Мы возвращаемся. Рим – это многократно переписанный палимпсест.
Описание Рима в «Цивилизации и ее тяготах» Фрейда говорит про все это куда более красноречиво. Для Фрейда Рим – идеальная метафора человеческой души и в конечном счете человеческого опыта. Ничто не остается сокрытым навеки, все проступает на поверхность, а в итоге все вещи наполняют друг друга, наполняются и соприкасаются.
По мнению Фрейда, Рим строился слой за слоем, от древнейшего геометрического «Roma quadrata, укрепленного поселения на Палатине» до «скопища… поселений на разных холмах» и «города, обнесенного Сервиевой стеной», а еще позднее – до «города, который император Аврелий окружил своими стенами». «Многие стены стоят и поныне», – пишет Фрейд, любитель античности, но «что до зданий, занимавших эту древнюю часть, [посетитель] не увидит ни единого, разве что немногочисленные развалины, ибо их более не существует. <…> На их месте теперь руины, но руины не их, а результатов более поздних восстановлений после пожаров или разрушений».
Фрейду, видимо, очень нравилась мысль о том, что руины – это не первоначальные руины, а руины более поздних восстановлений, иными словами, результаты многих последовательных разрушений, напоминающие о многослойной Трое Шлимана, которую отстраивали раз за разом, один уровень над другим.
Однако, набросав столь выразительный портрет многослойного Рима, Фрейд внезапно меняет ракурс и предлагает еще более смелую аналогию, напоминая читателю, что «в жизни разума ничто, единожды сформированное, не исчезает». Ничто не пропадает совсем, ничто даже не распыляется. Более того, по мнению Фрейда, само понятие последовательных уровней, где уровень первый предшествует второму, а второй – третьему, недостаточно корректно, потому что одно не обязательно просто предшествует другому, ни в Риме, ни в жизни человеческой души. Вместо последовательности Фрейд предлагает очень смелую модель, говоря, что то, что некогда было настоящим, а теперь является прошлым, вполне возможно, продолжает существовать, причем не обязательно под тем, что является зримым, но рядом с самой поздней инкарнацией. «Изначальное… обычно сохраняется рядом с видоизмененным вариантом, который из него вырос».
Наречие «рядом» – это ключ к Риму Фрейда. Предок проживает не под потомком и даже не просто рядом с потомком, а – если развить эту мысль – предок превращается в потомка. Как будто бы исходная языческая запись на палимпсесте не только не исчезла или продолжила существовать одновременно с написанным поверх ее текстом; она могла даже затмить то, что появилось после. Более позднее трется о более раннее, и раннее вступает в диалог с поздним.
Фрейд понимал: более раннее не исчезает, а сосуществует с более поздним. А предположим, что «полет воображения», продолжает Фрейд, приведет к тому, что на месте палаццо Каффарелли опять будет стоять, причем без необходимости убирать оттуда палаццо (курсив мой. – А.А.), храм Юпитера Капитолийского, да еще и не только в поздней своей форме, в какой видели его римляне времен Империи, но одновременно и в ранней, когда в нем еще были этрусские элементы и его украшали этрусские антефиксы? На том месте, где теперь стоит Колизей, мы могли бы одновременно полюбоваться исчезнувшим Золотым домом Нерона. На площади Пантеона мы бы обнаружили не только сегодняшний Пантеон, завещанный нам Адрианом, но прямо на том же месте и первоначальное здание, возведенное Агриппой; более того, на том же участке могли бы находиться и церковь Санта-Мария-сопра-Минерва, и древний храм, над которым ее возвели.
Но Фрейду явно не по душе этот вдохновенный, пусть и химерический полет фантазии, который в отношении Рима явно выглядит утрированным. Видение пространства, не затронутого временем, где древние постройки не просто стоят рядом с более новыми, но и как бы впаяны в них, где древнеримские памятники, камни которых давно разграблены, пристраиваются аккурат на тех же местах, что и более поздние дворцы, сложенные из этих самых разграбленных камней, – это видение сюрреалистическое, Фрейд не смог бы с ним долго уживаться. Не получится демонтировать бронзовые порталы римского Пантеона и переплавить их на строительство балдахина работы Бернини в соборе Святого Петра – и ожидать при этом, что и в Пантеоне, и в соборе останутся привычные элементы из бронзы. Фрейд не без оснований предполагает, что вся римская история представлена в каждом мгновении существования города, просто он не в состоянии (а может, отказывается) представить визуально, как два здания могут сосуществовать на одном и том же месте.
Фрейду нравилась археологическая модель, и он, наверное, согласился бы с представлением о подвижных тектонических пластах, которые постоянно выталкивают и замещают друг друга, а вот образ множественных временны´х зон, сосуществующих рядом друг с другом, превосходил его воображение. И вот тот самый человек, который велел своим пациентам исследовать самые безумные свои фантазии, от этой фантазии отрекается: «Ясно, что нет необходимости закручивать нашу фантазию далее, это ведет к невообразимым и даже абсурдным вещам. Если мы хотим представить историческую последовательность в пространстве, то можно сделать это только путем пространственного сопоставления: одно и то же пространство не может иметь два разных наполнения». Послойная аналогия сослужила свою службу, и здесь она заканчивается. «Нет необходимости закручивать ее далее», – говорит Фрейд.
И тем не менее, когда Фрейд представил Рим метафорой души, он – возможно, неосознанно – прикоснулся к вещи вполне себе непредставимой. Не только к последовательности временны´х зон – это вполне представимо, – но к крушению и в итоге стиранию зон темпоральных.
Подобно созданному фантазией Фрейда Риму, где слои временны´х зон постоянно тасуются, и душу тоже можно сравнить с суфле в процессе изготовления: желания, фантазии, опыт и память как бы внедряются друг в друга, без всякой последовательности, логики, без намека на связный нарратив. Перефразируя Джулию Чайлд, внедрение – это зигзаг, движение кулинарной лопаточки по восьмерке, в результате которого смесь поднимается вверх, потом внедряется обратно в свои нижние слои, а потом то, что внедрилось вниз, опять оказывается наверху. То, что было прошлым, становится настоящим, будущее – прошлым, а то, чего не могло быть вовсе, возвращается снова и снова.
Рим, рекультивированная свалка вечности, – этакая сборная солянка перемешанных, внедренных друг в друга грамматических времен: в основном – прошедшего, по касательной – настоящего, в больших дозах – условного и сослагательного наклонений – они образуют однородную смесь, которую лингвисты называют ирреальным наклонением, образуют неописуемую, идущую вразрез с фактами временну´ю зону, где мы, смертные, проводим бóльшую часть своей жизни в обществе несбыточного, вещей, которые не случились, но от этого не стали нереальными и еще могут случиться, хотя мы надеемся – и боимся – и что они случатся, и что этого не произойдет.
Каждое из придаточных предыдущего предложения совершенно не обязательно противоречит предыдущему или последующему или развенчивает его, скорее они дополняют друг друга и внедряются одно в другое, образуя последовательность, которую с легкостью можно назвать, как это принято в музыке, moto perpetuo разворотов на 180 градусов и движений вспять.
Ирреальное наклонение, подвешенное между «уже нет» и «еще нет», между «может быть» и «уже да» или между «никогда» и всегда», не расскажет нам свою собственную историю – оно лишено сюжета и нарратива и состоит из неуловимого гула желаний, фантазий, памяти и времени. Ирреальное наклонение не зафиксировать на письме и уж тем более в мыслях.
Тем не менее в нем мы и живем.
Проблема фрейдовской археологической аналогии заключается не в том, что автор не до конца в нее верит по причине ее причудливости: просто сама аналогия несостоятельна. Вещи движутся и во времени, и в пространстве; чтобы аналогия сработала, они должны двигаться в обеих этих плоскостях одновременно – а именно это Фрейд, который совершенно не чужд мышлению вразрез с фактами, и отвергает как фантазию. Фрейд просто не в состоянии зримо представить себе, как извечное место и вековечное время совпадают в каждой точке. Подобное мышление идет вразрез не только с фактами, но и с интуицией.
Одна из причин замешательства Фрейда перед лицом подобной конструкции может состоять в том, что он использует пространственную метафору времени, а это все равно что описывать апельсины через метафору с яблоками. Часть проблемы может состоять еще и в том, что Фрейд не способен думать о времени, не упоминая пространства, при этом попытка думать о пространстве в том же контексте автоматически отключает у него мышление о времени.
Подозреваю, однако, что проблема лежит в иной плоскости. Да, Фрейд использует археологическую метафору, однако в видении его представлены не столько раскопки, которые предполагают вертикальное движение от слоя к слою – исторически, хронологически, диахронически, – сколько нечто совсем иное.
* * *
Ирреальное наклонение изъясняется не на языке психоаналитиков-археологов, а на языке лозоходцев, которые используют явление, называемое остаточным магнетизмом. Имеется в виду, что предмет остается слегка намагниченным еще долгое время после того, как воздействие на него магнетизма прекратилось. Остаточный магнетизм – это воспоминание о том, что исчезло и само по себе не оставило следа, но при этом, подобно ампутированной конечности, продолжает заявлять о своем присутствии. Вода уже высохла, однако лоза реагирует на память земли об этой воде.
Остаточный магнетизм, в отличие от раскопок, где движение происходит вертикально, от слоя к слою, то есть последовательно, – это притяжение некой силы, которая не только остается скрытой или, так сказать, ушла в землю и продолжает погружаться в нее все глубже, а то и вовсе исчезла, прекратила свое существование или даже не существовала никогда, но – добавим еще один виток – ее воздействие, присутствие вполне может быть притяжением со стороны чего-то, что и вовсе еще не зародилось, а только пробивается на поверхность, к будущему. Два жеста – появление и исчезновение – совпадают во времени, ибо остаточный магнетизм и присутствие в конечном счете говорят нам не о времени – прошлом, настоящем или будущем, – а о сплетении всех трех. Речь идет о воде, которая либо существует, либо не существует под землей, она могла высохнуть или прямо сейчас накапливается – или происходит и то и другое одновременно.
Лозоходцев не обязательно интересует присутствие или, если уж на то пошло, отсутствие чего-то, для них важнее эхо, тень, след или, если подойти с противоположной стороны, зачаток, зарождение, временное бездействие, состояние личинки. Тень ушедшего и зародыш еще не рожденного оказываются рядом друг с другом. Говоря языком литографий, Рим одновременно и город, и снятый с него отпечаток. Это и образ, и пятна на литографическом клише через долгое время после того, как отпечатки вставили в рамы и продали: так рыбья чешуя порою блестит на разделочной доске сильно после того, как рыбу выпотрошили, приготовили и съели. Суть Рима не столько во времени, сколько в непрерывных модуляциях времени, в его непрекращающемся рефлюксе.
Находясь в Риме, отчасти что-то себе представляешь, отчасти вспоминаешь. Рим не может умереть, потому что его никогда полностью не существовало в реальности. Это тень чего-то, что почти возникло, но прекратило существовать, но не перестает пульсировать и жаждет продолжить свое бытие, хотя время его то ли еще не настало, то ли уже прошло, то ли одновременно настает и проходит. Рим – чистая фантазия. Его вроде бы нет, он не вполне реален, но и не нереален: он ирреален.
* * *
То, что пережил Фрейд, оставшись лицом к лицу с Римом, повторилось в 1904 году, когда ему наконец удалось увидеть афинский Акрополь. Он испытал не разочарование и даже не сногсшибательное ощущение, называемое «синдромом Стендаля», когда человек лишается чувств перед великим произведением искусства. Вместо этого он ощутил некую пресыщенность, доходящую до онемения, распада, чувства отстранения. Джеймс Стрейчи переводит немецкое слово Entfremdungsgefühl как derealization, де-реализация, ощущение, говоря словами самого Фрейда, «то, что я здесь вижу, не есть реальность». То, что должно было стать источником счастья и удовлетворения, вылилось едва ли не в апатию, неверие, а в итоге – в душевный разлад. Акрополь отказался с ним разговаривать. И ничто не могло столь же громко, сколь эта неспособность осознать реальность, заявить о провале попытки получения опыта.
«Так вся эта реальность все-таки существует, как нас и учили в школе!» – думает озадаченный Фрейд, оказавшись впервые в жизни на Акрополе. Он знает: у него никогда не было оснований сомневаться в существовании Парфенона, и тем не менее он не способен постичь реальность собственного опыта – и доказать тем самым, что опыт имел место. Складывается впечатление, что тот самый разум, который не позволял себе «предаваться выдумыванию фантазий», сейчас делает в точности противоположное – он не способен предаваться ощущению реальности.
Посетить то или иное место еще не значит обрести его в опыте. Подлинный опыт – это резонанс, представление «до», представление «после», истолкование опыта, его искажение, борьба с постижением опыта опытным путем. То, что мы думаем о нашем опыте, даже когда не знаем в точности, как его осмыслить, – само по себе опыт. Опыт – это сияние, которое мы проецируем на предметы, а они сияют в ответ. Мы привозим наши фантомы в Рим, отыскиваем их там, считываем, рассчитываем с ними столкнуться – и в процессе Рим превращается в воплощение этих фантазмов, даже тех, с которыми мы так и не столкнулись.
Лучше всего запоминается то, что могло случиться, но не случилось.
* * *
Чем был Рим для Фрейда? Двойником чего-то другого? Набором неразобранных воспоминаний, желаний, страхов, фантазий, травм, блоков, подавлений, копившихся с детского до взрослого возраста, причем не просто наслоившихся друг на друга, но существовавших – вспомним очень уместное слово самого Фрейда – рядом друг с другом? Наверное, правильнее задаться вопросом о том, как Фрейду удалось придумать самую блистательную метафору в истории психологии – утверждение, что душа, как и Рим, не есть что-то одно, что и человеческая личность есть не что-то единое, но сочетание множества подвижных изменчивых преходящих частей, которые меняются местами, гримасничают, надевают и сбрасывают самые разные маски, лгут, обманывают, обкрадывают одну, дабы одарить другую, – именно поэтому мы и не знаем, кто мы, чего хотим, почему не дано нам прощение грехов, которых мы, возможно, и не совершали вовсе.
И все же: почему именно Рим? Может, Фрейд выбрал Рим в силу того, что, размышляя о вечном противостоянии детских импульсов и их подавления во взрослом возрасте, он уносился мыслями в Рим, но не только потому, что Рим виделся ему подходящей метафорой для человека, преданного душой древнему искусству и археологии, и не потому, что было в нем и в Риме нечто такое, что заставляло думать о подавлении, а потому, что сама по себе его любовь к античности и археологии была двойником пожизненной тяги к сокрытому, уклончивому, непроявленному, первобытному, неприрученному – к тому, что, по всей видимости, к поре первой юности он уже успел обуздать и, возможно, подвергнуть внутренней цензуре. Как говорит Питер Гэй, и отказ от поездок в Рим мог быть долгосрочной формой цензуры. Размышления о Риме на четырех примерно страницах «Цивилизации и ее тягот» тревожны, но не столь уж гнетущи; в них даже проглядывает удовольствие. Придумать, что Рим своего рода метафора, позабавиться с его множественными слоями, поразмыслить о слоях, наглядно показать, как снимается слой за слоем, как можно с почти хирургической точностью, с особым историографическим тщанием погрузиться в глубину вещей, – все это, видимо, представлялось относительно безопасным и в конечном счете потаенно-либидным, суррогатным удовольствием, заместителем отложенного неназванного удовольствия.
В этом смысле обращаться мыслями к Риму значило не просто говорить о подавленных импульсах; то был окольный путь осмысления того, что подавлял сам Фрейд: оно подавалось в виде фигуры речи, своего рода универсальной метафоры. Археология, а в смежном значении – и сам Рим – становилась одновременно и механизмом, и метафорой подавления. В итоге оказывается, что простейший способ закопать в землю то, что подавлено, – пройти все этапы извлечения на поверхность. И наоборот.
После 1901 года Фрейд возвращался в Рим неоднократно. И наверняка он вспоминал каждый из предыдущих визитов, когда стоял в своем номере в отеле «Эдем» с видом на город и обращался мыслями вспять – не только к тем временам, когда он не мог заставить себя приехать в Рим, но и к тем, когда он заранее обдумывал визиты, пришедшиеся на последующие годы. Будучи человеком методичным, он, скорее всего, подробно каталогизировал каждый визит в голове и, подобно Вордсворту, который вспоминает свои приезды в Ярроу, тоже пытался осмыслить Рим непосещенный, Рим посещенный, множество Римов, посещенных повторно: думал о Фрейде-мальчике в Вене, который читает про Рим, Фрейде сорока с чем-то лет, впервые туда приехавшем, потом – о Фрейде постарше, дальше – об отце Фрейде, больном Фрейде, причем каждый неизменно мечтает о том, чтобы снова и снова возвращаться в город, который стал столь отчетливым символом многих его страстей и дела всей его жизни.