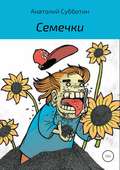Анатолий Субботин
Убью, студент!
О себе и о жизни предлагалось ему писать. Но о чем конкретно? Как он грызет камни наук или пьет водку?.. Нет, ничто вокруг его не вдохновляло. По крайней мере, пока. Быть может, потом, в старости, когда серая пыль нынешних будней и мелочей уляжется, когда на расстоянии многое покажется большим и значительным, – вспомнит он весь блеск и нищету своей молодости. Теперь же тусклым мелочам он противопоставил великие стихии и страсти:
Свистит ураган. Заливая фрегат,
как черт, взбунтовалась пучина.
Обшивка и мачты фрегата трещат,
изорвана парусина.
В порыве немом… Охвачена тьмой…
Невесело нынче команде.
А влево и выше, за черной кормой
проходит Летучий Голландец.
Какой фрегат? Какой голландец? Тем более летучий, – слышит Лёня голос строгого критика. – Вы где живете? В Советском Союзе, скромно отвечает непризнанный поэт, на дворе – конец 1979 года, на носу – коммунизм. Наши силы велики, так что, желая поделиться с другими, часть их отправили в Афганистан. Мы бороздим просторы вселенной, ныряем на дно океана, уходим в разведку в тайгу… Вот-вот, восклицает критик, об этом и пишите. Разве Вы не чувствуйте героизм нашего времени? Я его чувствую, говорит Лёня, но я его не воображаю. А паруса я воображаю, хотя и не чувствую. Что-то много Вы себе воображаете, критик – ему, советский читатель таких не понимает и не любит. И стало стыдно Соломину перед советским читателем, и мучительно больно стало ему за бесцельно прожитые годы.
24. Лагерь
Лёня заметил, что детство и отрочество его тянулось долго, а студенческие годы быстро пролетели. Причиной тому – их насыщенность: приходилось много учиться, много общаться с друзьями, так что и на стихи времени почти не оставалось. Но насыщенные годы тяжелы: один трех стоит, – и Соломин был где-то рад, что они кончились. Он вышел из университета с дипломом, с нездоровым животом и расшатанными нервами.
Прямо в лагерь попал он из университета. Не пугайтесь: не в тот лагерь, а в другой. Помните анекдот? Стоит пионер на автобусной остановке. К нему подходит зэк. «Пацан, ты откуда»? – спрашивает. «Из лагеря». «О! – удивляется зэк. – И я из лагеря… А куда ты»? «К бабе». «О, и я к бабе»! И так далее… Да-а, богат и многогранен русский язык! Удивительно ли, что иностранцы нас не понимают.
Не в пионерский и не в «зональный» лагерь попал Леонид. А в военный. Работала при ВУЗе военная кафедра, и учеба на ней завершалась трехмесячными сборами, чтобы, значит, выпускники, перед тем как получить билеты офицеров запаса, попрактиковались, понюхали маненько походной жизни. Конечно, эта жизнь не шла ни в какое сравнение с армейской – ни по срочности, ни по тяжести, ни по так называемым неуставным отношениям. Поэтому мы пройдемся по ней бегло, используя прием быстрой смены кадров.
Вот начальник кафедры, полковник Щукин, построил курсантов-выпускников на плацу перед зданием кафедры на предмет осмотра внешнего вида. Несколько человек по его приказу вышли из строя и поспешили в ближайшую парикмахерскую снимать лишние сантиметры растительности со своих неуставных голов. Среди них был и Соломин. Он постригся наголо, хотя этого не требовалось и хотя раньше такого с собой не делал. Но сегодня «бермудно» и равнодушно ему было. Почему? Да всё потому же. Вся повесть, можно сказать, об этом. Любил он жизнь яркую, веселую, праздничную, а за праздники надо платить. Погрузились они, веселые и хмурые, в военные крытые брезентом машины и поехали за семь верст от города в лагерь, находящийся между Пермью и Голым Мысом.
Нет, зря все-таки людей стригут (или сами они стригутся) под ноль! Ведь такая с позволения сказать прическа катастрофически уменьшает, сводит к нулю и внутреннее содержание человека. Взять, например, тюрьму. Ну, разве можно граждан и без того разболтанных, пришедших туда без нравственного, так сказать, стержня, эдак-то вот болванить!? Мы уже говорили и не устанем повторять: надо стричь зэков с челочкой, как в нашу детсадовскую бытность. Как сразу преобразятся, расцветут их суровые пустынные лица! Как вслед за ними вспомнят-вернутся в золотое детство их ожесточенные сердца! В детство, где мир прекрасен и все люди – братья. А если добавить к челочкам благородных воспитательниц, умеющих увлечь за собой к творчеству и созиданию – о! – сколь изменятся наши тюрьмы, сколь станут соответствовать они своей цели – воспитывать и исправлять! Дело кончится тем, что в тюрьмах станет светлее и нравственней, чем на свободе, и вольные люди потянутся в сии учреждения, ибо рыба ищет, где глубже, а человек – где чище.
В большом палаточном шатре солдаты срочной службы выдали курсантам обмундирование. Один выдавал сапоги и портянки, другой – штаны и гимнастерки, третий – пилотки, четвертый – противогазы. Называешь размер ноги или головы – получаешь соответствующую вещь. Противогаз Лёня получил номер один, самый маленький. Но он не огорчался из-за своей мини-черепушки; он знал, что разум измеряется не объемом серого вещества, а количеством в нем извилин. И выходит, что извилист и непредсказуем путь разума. Переоделись экс-студенты, стали как один, а в противогазах так вообще не поймешь, кто есть кто. Получили они палатки: палатку – на отделение. Установили, стали жить.
В 7 утра подъем, пробежка с голым торсом и физические упражнения. Затем – туалет (количество умывальников и очков в сортире согласно уставу). В 8 часов завтрак. К 9-ти подъезжают товарищи офицеры, начинаются занятия. Вот выходят курсанты в поля, ориентируются на местности (слева – овраг, справа – лесок, прямо – кривая береза), взвод, короткими перебежками вперед! – наступают. Вот, обозначив саперными лопатками окоп, ведут они оборону. Вот уже в настоящем окопчике нужно переждать, пока над тобой проедет танк, и бросить ему в задницу деревянную гранату. Не для слабонервных упражненьице. И хотя окопчик специально укреплен, забетонирован (чего в реальном бою не бывает), грохот махины над тобой навсегда заставляет тебя разлюбить яйца всмятку. А вот захватывающее занятие – вождение. В качестве учебных машин использовались списанные БТРы выпуска 40-х годов. Понятное дело, они часто ломались. Но покопается в моторе солдатик-водитель, закрепленный за данной единицей техники, и снова стальной приземистый «гроб» задвигается рывками по проселочному пути под управлением неопытного курсанта.
На огневой подготовке стреляли они из автомата Калашникова и один раз из гранатомета РПГ-7. Гранатометчикам, стрелку и снарядоносцу, полагались наушники. Однако подполковник Пеньковский, рассказывали, азартный до слабоумия, хотел наушники отменить, чтобы, значит, курсанты привыкали к грохоту войны. Хорошо, что другие офицеры не поддержали его, иначе выпускал бы университет лейтенантов туговатых на ухо. Вот Лёня подал стрелку снаряд и отошел немного в сторону. Ибо гранатомет стреляет не только вперед, но и назад – на несколько метров горячим воздухом, и может тебе что-нибудь подпалить. Вот Соломин уже в роли стрелка положил «трубу» на правое плечо и встал на левое колено. Прицелился в зеленый, вырезанный из фанеры силуэт танка – пли! – просвистела пустая, без взрывчатки, хвостатая граната. Мимо.
Вот майор Мищенко поясняет между делом молодежи, что правая мошонка у мужчин отвечает за подъем, за боевую, так сказать, готовность, а левая содержит начинку. И если левая с годами опустеет, станешь ты как холостой патрон. Вот курсант Соломин подходит к командиру роты, майору Култаеву, смуглому, то ли татарской, то ли среднеазиатской внешности, и жалуется на живот. Майор Култаев посылает курсанта Соломина на три буквы. Но потом, сообразив, что тут все же не армия (а этот майор был армейский, не работал в университете и помогал лишь во время сборов), что курсант может обратиться к полковнику Щукину, и хотя ничего серьезного не будет, а все ж и замечания от начальства неприятны, – майор подзывает Лёню и проявляет человечность – советует заваривать и пить липовый цвет и еще какую-то травку. Спасибо, отец-командир! Но не липовый цвет, а печальная новость по радио отвлекает Соломина от его болячек. Умер Высоцкий. Как там у него?
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель.
И вот как будто холодом подуло.
На этой цифре Пушкин нагадал себе дуэль
и Маяковский лег виском на дуло.
………………………………………
На этом рубеже легли и Байрон и Рембо,
а нынешние как-то проскочили.
Он недалеко ушел за этот рубеж. 42 года ему было. Ранняя смерть его вроде была понятна: он не жалел себя, много и с надрывом работал, поговаривали о его загулах. Но все же «Высоцкий умер» прозвучало неожиданно… Многие потом напишут о нем. Точнее всех, может быть, Градский:
Он из самых последних жил
не для славы и пел, и жил.
Среди общей словесной лжи
он себя сохранил.
И на круче без удержи
все накручивал виражи.
Видно, мало нас учит жизнь:
тот убит, кто раним.
Однако вернемся в строй. Вот курсант, умеющий жить, предложил начальнику лагеря снять о сборах документальное кино. Получил добро, и в то время как прочие ходили в поля или строевым шагом по плацу, заступали в наряд по кухне и так далее, мелькал то тут, то там с кинокамерой, свободно выезжал в город и хорошую часть времени был предоставлен самому себе. А когда в августе и особенно в сентябре ночи стали прохладными, и приходилось спать, не раздеваясь, под двумя одеялами и шинелью, курсант, умеющий жить, перебрался из палатки в дощатую и отапливаемую каптерку.
Вот и последний вечер перед «дембелем». Соломин провел его на удивление скромно. Может, по причине стесненных финансов. Он посидел с двумя товарищами перед печкой-буржуйкой в длинном пустом, тихом классе. Потом вышел на воздух. Над лагерем висело звездное небо. Несколько фонарей на столбах обозначали территорию. В палатках тоже царила тишина (многие курсанты слиняли в город), но это было затишье перед бурей. Не успел Лёня залезть под одеяла, как кое-где раздались песни, взрывы смеха и крик. Дальше-больше, затрещали выстрелы, и разноцветные огни, различаемые сквозь материю палатки, взвились к небу. Вот черти! – подумал Соломин. – Где они ракетницы-то взяли? В соседнем шатре случился явный переполох. Лёня надел сапоги, выскочил. Что происходит? Из палатки валил густой дым. Соседи стояли снаружи и ругались. Ба! – осмотрелся Леонид. – Дымилась далеко не одна эта палатка. По лагерю носились человеческие тени. Оказалось, это ребята из первой роты усыпили бдительность дежурного офицера, добродушного майора Чугунова, и, проникнув в штабной шатер, вынесли оттуда энное количество ракетниц и дымовых шашек. И прокоптить своих коллег из второй роты решили они. Но вот дым развеялся, веселье улеглось. Отбой.
В последний раз филологи, лейтенанты запаса, вошли в родную «восьмерку». Они зашли, чтобы проститься с ней, с университетом, со своей студенческой жизнью и друг с другом. Стол уже был накрыт. Его организовал Самвел. Этот армянин учился вместе с Олегом Гостюхиным, но к данному времени оба они уже бросили учебу и вращались при универе последние дни. Вот так оно бывает: кому – диплом, а кому – справка о незаконченном высшем.
Пили, курили, разговаривали, пели. Ничего нового. На следующий день отправились в пивнуху лечиться. Потом зарулили в привокзальную ресторацию. К вечеру снова были хороши. Алексей Ухов так расчувствовался, что сознался Леониду. Вы такие классные ребята, сознался он, а я вас закладывал! Куда закладывал? Понятное дело, не за воротник. Стукачом, выходит, оказался. Лёня смотрел на своего однокашника, но не находил в себе ни злости, ни обиды. Вот ведь, думал он, повинился человек, значит, не всё в нем еще потеряно. За окном общаги облетала листва. На третий день с утра, торопливо простившись, разъехались они. Всё. Отбой. Теперь уже окончательный.