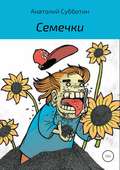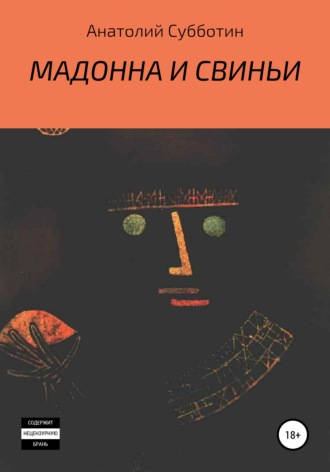
Анатолий Субботин
Мадонна и свиньи
И вдруг на горизонте в лучах солнца блеснуло что-то белое. Приблизившись, мы увидели остров, и пристали к нему, и сошли на него. А он был каменный и гористый, и ничего не предлагал взору, кроме белого скользкого холодного камня неизвестной породы, ослепившего нас сверканием. И я подумал, что, может быть, тут залежи драгоценностей, но когда взял кусок камня в руку, тот стал уменьшаться, истекая водой, пока не исчез. И нам стало не по себе от этого острова. Но всё же мы решили задержаться, чтобы починить корабль, и, не откладывая, приступили к делу. Часть людей занялась починкой, пустив в ход за неимением ничего другого драгоценный сандал. Остальные, среди которых были я, капитан и несколько купцов, выбрали место поровнее, разожгли костёр (увы, из того же сандала!) и стали готовить ужин.
Через некоторое время кто-то заметил, что наш костёр проваливается в землю. И это так и было. Огонь вырыл под собой яму. «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха великого и единого! – воскликнул я. – Боюсь, мы увязнем в этой земле, и она пожрёт нас, как пожирает теперь наше пламя». Но мы не успели обсудить случившееся, поскольку другое происшествие и чудо – ещё более страшное – отвлекло нас. Со стороны гор к нам стали приближаться две странные фигуры. Подобно людям они двигались на двух задних конечностях. Но на этом их сходство с людьми, пожалуй, и кончалось. Слишком они были угловаты и неотёсаны. Голова одного чудовища была квадратной, а другого – треугольной. Руки и ноги обоих, казалось, отрицали саму возможность существования плавной линии и пропорции. Левая рука, скажем, могла быть толще и длиннее правой, а запястье её гораздо шире предплечья. И так далее. Словно этих уродов творец высекал из камня и бросил дело, едва успев начать. Но самое удивительное заключалось в том, что они (будучи без одежды) действительно белели, как весь остров, и казались сделанными из того же материала.
И они подошли к нам (а мы настороженно наблюдали за ними, взявшись за мечи) и вдруг схватили двоих, капитана и матроса, и прижали к своей груди. Тела людей, немного подёргавшись, обмякли, и уроды бросили их, чтобы перейти к следующим жертвам. Нам пришлось защищаться, но наши мечи отскакивали от них и не могли заменить стенобитное орудие. И одно чудовище схватило меня и прижало к своей груди. И ноги мои повисли в воздухе, так как я (и все мы) был меньше его ростом. И я хотел выколоть ему глаза, но не нашёл глаз. Вместо них были небольшие впадины, какие бывают у статуй. Урод убивал меня своим холодом: я почувствовал, как в моих жилах останавливается кровь. Вдруг смертельные объятия ослабли, и я соскользнул на землю. Белокаменный отступал. Оказалось, мой верный и умный слуга (тот, что разгадал мой сон) применил новое оружие – горящую головню. Огонь! Их донимает огонь! Поняв это, мы похватали из костра головешки и обратили чудовищ в бегство.
Поскольку нам выпало заночевать на острове (а был уже вечер) и, возможно, пробыть здесь ещё день-два, пока идёт починка, я приказал принести с корабля запас пищи и дерева. Огонь надо было поддерживать постоянно – для тепла, а главное, для безопасности. Тем временем я попытался с несколькими людьми похоронить капитана и матроса. Но проклятая твердолобая земля не хотела стать последним приютом для погибших, и они остались непогребёнными. Позднее мы опустили их в ямы, выжженные кострами.
Утром ремонт корабля возобновился, а во время обеда помощник капитана мне сообщил, что к вечеру они закончат. Нам всем не терпелось покинуть этот кошмарный остров, и мы не ждали от него ничего, кроме очередной напасти. К нашему ужасу, радость наша по поводу отплытия оказалась преждевременной, а опасения сбылись. Произошло такое, после чего мы позавидовали мёртвым. Близлежащая к нам скала вдруг треснула, её вершина – огромная глыба – сорвалась и, промчавшись мимо нас, ударила в корабль. На его месте мы увидели лишь деревянные обломки. Вся команда и многие слуги, участвовавшие в починке, погибли. Сгоряча мы принялись вылавливать плавающие доски и несколько преуспели в этом, несмотря на то что их уносило в море и на то, что вода была невыносимо холодной. Но, поостыв, я увидел всю глупость этого первого порыва. Ведь корабль жалкие обломки не заменят, а как топливо они лишь продлят нашу агонию.
Вместе с кораблём мы потеряли надежду и опустили руки. День и ночь мы сидели или бродили вокруг костра, постепенно доедали съестное и гадали, какая нас ждёт смерть: от холода или от голода. Снова появились белокаменные уроды. Кажется, они поняли, что мы находимся в бедственном положении, и, сев поодаль, терпеливо ждали, когда совсем исчезнет их враг – огонь, – уже впавший по своим размерам в детство. Я заметил, что чудища вполне обходятся без одежды и пищи. Кажется, и рты у них были ненастоящие, как и глаза. Возможно, подумал я, их питает холодный воздух. Возможно, он их и породил. Дальнейшее их странное поведение подтвердило эту мою мысль. Как бы там ни было, нам не хотелось попасть в объятия уродов, и мы решили порубить в последний момент друг друга мечами.
Так прошла неделя или больше. В каком-то полубреду я думал: скорее бы! – и мысленно торопил свою гибель, и даже испугался, что она никогда не придёт. И я воскликнул в отчаянии и печали: «Друзья, мы не умрём, потому что мы уже мертвы! Приходилось ли вам видеть раньше и слышать прежде о таких морях и подобных островах? Разве может быть на Земле такой холод? Разве может человек пройти столько испытаний и остаться в живых? Хотите знать, где мы? Мы в аду! Ифрит принёс нас сюда на вечную муку, чтоб мы шли от страдания к страданию и бедствиям нашим не было конца. Не верите? Тогда объясните мне вот это».
И я указал на одно из жутких чудес той местности – белый лёгкий дождь. Но это были не капли воды, а чёрт-те что: лепестки роз, мелкий пух ягнят, медленно падающий с неба, покрывающий землю и наши шкуры, но тонущий в море и в наших руках и лицах. Сначала редкий, а потом густой, как туман, он скрыл всё вокруг, и мы, скучившись у костра, едва различали друг друга.
Дождь шёл долго, или так мне показалось. А когда он кончился и зрение вернулось к нам, мы стали прежде всего искать глазами наших чудищ. И увидели, что те покинули своё место и движутся к воде. Потрогав воду руками и обменявшись взглядами и жестами, они неожиданно для нас бросились в море и поплыли от острова прочь. И нас охватило изумление, и мы не знали, радоваться нам или горевать. А потом кто-то крикнул: «О, всемогущий Аллах! Смотрите – земля!» Вдали появился другой остров. Откуда он взялся? Ведь прежде горизонт был пуст. В отличие от нашей, та земля была обычного цвета: мы видели серые холмы, кое-где покрытые зеленью. Нам хотелось перебраться туда, но об этом нечего было и думать. Обессиленные, мы утонули бы, не преодолев и половины расстояния. И мы смотрели, неотступно смотрели на тот остров час или два, пока нам не стало казаться, что он как будто бы приблизился. Мы уже различали очертания берега и даже отдельные деревья. «О, горе нам! – воскликнули мы. – Он движется и плывёт! Где это видано, чтобы острова плавали?» И хотя теперь можно было рискнуть и попытаться добраться до него, но как мы могли довериться земле, которая не стоит на месте, а подобно живому существу снуёт и рыскает? И мы облегчённо вздохнули, когда поняли, что остров проходит мимо.
Так прошёл день или два. К нашему удивлению, в воздухе заметно потеплело. Это спасло нас, потому что дрова в ту пору кончились, и огонь потух. В особенно благодатные полуденные часы мы даже сбрасывали шкуры, принимая на короткое время истинный облик правоверных. Кто-то потрогал море. Оказалось, что и оно стало не таким холодным. Но мы заметили и другое, после чего наша радость опять сменилась тревогой и беспокойством. Наш остров как будто уменьшался. Намного ниже стали горы, и потеряла в величине площадка, на которой мы находились. Белый камень уже не отличался той крепостью и не скользил, как прежде. Его рыхловатость говорила о старении и распаде. И страшное слово «рассыпаться» не выходило у меня из головы. И я сказал:
– О, друзья мои! О, братья! Эта земля боится огня и тепла. Вы видели, какие вмятины образовались в ней от наших костров. И теперь, когда вокруг потеплело, она испаряется и исчезает подобно кипящей в чайнике воде. И скоро мы станем пловцами. И хорошо, что мы ослабли от голода, – значит, наш мучительный заплыв не продлится долго… Но я ещё кое в чём подозреваю наш ужасный остров, и я хочу проверить мою догадку.
С этими словами я размотал свой длинный парчовый пояс и опустил один его конец в воду, к которой не надо было далеко идти. Намокнув, пояс не ушёл вертикально в глубину, а вытянулся в сторону, что говорило о сильном течении.
– Братья, – сказал я, – увы, догадка моя сбывается, и сейчас вы узнаете то, после чего тоска ваша намного увеличится. Мы могли бы спастись, если бы перебрались на остров, который ошибочно приняли за плавающий, а он был нормальный. И это МЫ плывём, это НАШ остров, как лодка по горной реке, несётся по океану.
Так я сказал, и все мы заплакали и, обнявшись, простились друг с другом. А на следующий день наши ноги уже не держали нас, и мы сидели и лежали, глядя на море и небо, и уже путали море с небом. Солнце ласкало наши лица, но притуплённость ощущений не позволяла нам в полной мере оценить эту ласку. Нас преследовали видения, и когда возле острова вдруг появился парусник, мы не поверили своим глазам.
Да, Аллах сохранил мне жизнь, чтобы я поведал вам о его невообразимых чудесах, о моём последнем путешествии, которое иногда представляется мне сном или болезненным бредом. Но, подойдя к зеркалу и взглянув на свои волосы и бороду, я вспоминаю, что уже видел этот цвет, так же близко, во всех подробностях. И белые холодные дождь и остров встают передо мной, вершители моей судьбы и красильщики моих волос.
Да, это было моё последнее путешествие. Как сказал поэт: «Дух бродяжий, ты всё реже, реже»…
И даже если ему, этому духу, вновь удастся соблазнить меня, я не уйду далеко, я умру в дороге, и мой порыв окажется напрасным, незавершённым, моя повесть останется неизвестной и нерассказанной.
И всё же мне ПРИДЁТСЯ совершить ещё одно, действительно последнее путешествие. Хотя для него не надо выезжать за город и даже выходить из дома. И это будет первое путешествие без участия моего тела. И я хочу, о мои друзья и домочадцы, в минуту расставания и отправки быть недалеко от вас, чтобы вы захоронили моё тело согласно нашим обрядам и я предстал перед Аллахом как верный ему до конца.
1995 г.
Последний день детства
Скоростное речное судно класса «Ракета» плюхнулось на живот и смиренно, как побитый пёс, подплыло к пристани. Речные матросы бросили сходни, и мы сошли на берег деревянного захолустного города Ч. Впрочем, слово «захолустье» не моё слово. Тогда я был ещё слишком юн для комплекса, каким страдают молодые провинциалы в жажде покорения столиц и собственной робости. Я был на каникулах – снова! И снова приехал к бабушке с дедушкой, у которых такой чистый, такой частный (жившие в коммуналках и бараках поймут меня) дом, сени, огород. Это целый мир для мальца… Теперь же я вижу, что «захолустье» означает вовсе не местность. И люди, произносящие это слово, невольно выдают пустоту своей души.
Было 9 часов июньского утра. Солнце уже пригревало, и день обещал быть жарким. Из открытых дверей пельменной доносился звон посуды, и горячие волны кухонного чада, смешанные с винными парами, обдавали прохожих.
– Позавтракаем на воздухе, – сказал отец.
Мы подошли к деревянному синему киоску. Киоск был старый. Многослойная краска шелушилась и торчала, как струпья прокажённого. Отец купил 4 пирожка с яйцом и луком, мне – стакан сока, себе – стакан вермута. «И синь, упавшая в реку», – вспомнил я строчку Есенина, колупая краску и жуя пирожок. Тогда я здорово зачитывался Есениным, знал многие стихи его наизусть. Это он приучил меня к поэзии, а заодно и к вину. Теперь его «синяя» строчка вызывает в моей памяти одну падшую личность, с которой я учился в университете. Частенько мы с Гавриком хаживали против течения: студенты спешили на лекции второй смены, а мы после бурной ночи – в пивную опохмеляться. Так вот, когда Гаврика упрекали в «синизме», он отвечал:
– Да, я «синь», но в реку не падал!
Я не виню Есенина за спаивание малолетних. К тому же у меня были и другие учителя. Учителей хватало. Зачем далеко ходить? «Яблоня» стояла рядом со мной и держала в руке стакан вермута. Второй стакан. Потом был третий и ещё. Отец разговорился с каким-то мужиком. Я тянул его за рукав. Наконец он докурил сигарету, и мы тронулись. Отца мотало. Мне пришлось взять его под руку.
По главной улице городка мы шли. Не помню, как она называлась. Наверняка – Ленина. Проезжая часть её была посыпана речной галькой. По сторонам пролегали деревянные тротуары. Мне казалось, всеобщее внимание мы привлекаем и прохожие засматриваются на нас. Было мне стыдно за отца и неловко. Он не понимал моих слов. Солнце припекало. Я боялся, что если он сядет на тротуар (попытки сделать это учащались), то я уже не смогу его поднять. Теперь я вижу, что боялся не только за него, но и за себя. Я как бы сдавал экзамен на взрослость, и мне не хотелось опозориться. Я вдруг почувствовал себя большим и сильным. Я был даже благодарен отцу за то, что он дал мне возможность оказать ему помощь. Было время – он водил меня за ручку, теперь он опирался о моё плечо, и я почти волок его на себе. Мы стали квиты, мы стали на равных.
Известно ли вам, какая из пешеходных дорожек наиболее женственна и требует постоянного ухаживания? Не ошибусь, если скажу: деревянная. Хрупкие доски имеют человеческое свойство ломаться и гнить. В городе Ч было МНОГО плотников, но не забывайте, что все они потомки первоплотника Иосифа, помешавшегося от горя по распятому сыну. Они тоже пили горькую и чаще смотрели в небо, чем под ноги, бросив тротуар на произвол земли. И земля подъедала дерево, и в нём заводились провалы. И отец, оступившись, упал и увлёк меня за собой. Так связуются времена, так на собственной шкуре мы ощутили последствия, резонанс и пустоту, образовавшуюся после великой казни.
Поднять отца оказалось легче, чем я думал. Он и сам старался встать на ноги, видимо, что-то чувствуя. Я приободрился. Однако нам предстояло свернуть с главной ровной улицы и перейти через овраг, спуск в который был пологим, но зато подъём – крутым, оснащённым лестницей. Сырое широкое дно оврага густо заросло болотными травами. Тротуар здесь держался на сваях и возвышался над землёй метра на полтора. Перил почему-то не было. И я приложил все усилия, чтобы хоть немного выпрямить наше зигзагообразное движение.
Гораздо позднее, когда отец уже умер, я написал такие строки:
Я вёл отца дощатым тротуаром.
Светило солнце, был погожий день.
Я, видит бог, существовал недаром:
я вёл отца, как собственную тень.
Да, повторяю: было радостное ощущение силы и взрослости. Но вместе с этим ощущением отец, сам того не подозревая, передал мне эстафету борьбы с зелёным змием, или попросту – пьянства. И в этом плане я повторяю его жизнь, и не он – моей, а я остаюсь его тенью. Разумеется, осознание описываемых «похождений» как акта преемственности пришло ко мне лишь теперь.
Тогда же я работал мускулами. Красивый, 12-летний я вёл своего уставшего отца, и когда мы, дважды останавливаясь, поднялись по лестнице в гору, я понял, что непременно доведу его. И уже не боялся гусей, которые паслись на травке почти возле каждого дома и так ужасно вытягивали шеи, бросаясь на прохожих, что я всегда не выдерживал и пускался бежать. Но в этот раз я даже не смотрел в их сторону. Как матросы с корабля (а мы и были с корабля), мы качались и пылили мимо шипящих шей и любопытных взглядов старушек – мы, непоседливые чужаки, бредущие неизвестно откуда, зачем и куда.
1996 г.
Башня Смерти
Взвесив все «за» и «против», он принял решение. Осталось выбрать конкретную форму осуществления задуманного. И тут он удивился. Он не думал, что, преодолев мучительное главное, застрянет на второстепенном. «Не всё ли равно КАК! – сердился он на себя. – И тут не можешь без художеств, эстет проклятый!» Плюнув, он пошёл пройтись.
Мелким дождичком освежила лицо Алексею Андреевичу парикмахерша-осень. Он нажал кнопку зонта, и небольшой чёрный купол услужливо заслонил его от огромного серого. В двухстах метрах от его дома (а жил Старыгин на окраине города) находилась железнодорожная станция. За ней – чем не место для прогулок? – лесок произрастал. Когда Алексей Андреевич проходил по навесному мосту, под ним, стуча и гудя, пронёсся поезд. «Нет, только не ТАК! – подумал Старыгин. – Ни поезд, ни авто, ни прыжок с высоты не годятся. Зачем пугать близких и прочих людей изуродованным телом? Чего доброго, и червей жуткий вид отпугнёт. Или, может, они не любят фарша. Останусь тогда навеки необработанным, неочищенным – и не видать мне костяного рая, как своих ушей».
Свернув с грязной дороги, он зашагал по опавшей листве и полёгшей жёлтой траве. Деревья росли не слишком густо, в основном лиственные, теперь голые, и взгляд, как выведенный на прогулку пёс, забегал далеко вперёд. Внимание Алексея Андреевича привлекла стая ворон, кричащая и кружившая над одним деревом, на котором болтался, чернея, неизвестный предмет. Что за плод, огромный и бесстрашный, висит тут наперекор наступающим холодам? Старыгин приблизился. Дерево оказалось рябиной, предмет – висельником. Судя по одежде, это был бомж или нищий. Их столько развелось в последнее время, что власти замучились принимать крутые меры. Их отлавливали по всему городу и без суда вздёргивали на ближайших фонарных столбах. «Неужели озеро казней вышло из берегов! – подумал Старыгин. – Неужели ОНИ докатились до осквернения природы?!» Но приглядевшись, он понял, что здесь дело обошлось, скорее всего, без блюстителей. На стволе рябины перочинным ножом было вырезано: «Идите на х..! Я сам». На земле валялись окурки и пустая бутылка из-под водки. Покинутому им миру самоубийца показывал язык. Вместо глаз у него зияли дыры, на голове его сидела ворона.
Алексей Андреевич закурил и подумал, что и этот способ не годится. Плебейская несдержанность в виде высунутого языка претила ему. Да и не зол он был на жизнь, чтобы дразнить её как бы то ни было. Просто устал он и сделался к ней равнодушным. Пожалуй, его бы устроила пуля. Скромно и мужественно. Но где взять деньги на пистолет и как связаться с чёрным рынком?
В городе затрещали выстрелы – несколько автоматных очередей. «Везёт фирмачам, – усмехнулся Старыгин, – изобилие сопутствует им даже в смерти». Вот для кого не жалеют патронов! Опять какая-то фирма попалась на неуплате налога, и все её сотрудники поставлены к стенке. Машина налоговой полиции таскает за собой прицеп – передвижную стенку размером 2,5 на 5 метров, выкрашенную «под кирпич», но сделанную из спецсостава, в котором пули вязнут, как мухи в паутине. Сей «панелевоз» всегда сопровождает толпа зевак, и вообще он пользуется любовью у бедных слоёв населения как некий символ справедливости. Бедняк, которому, быть может, завтра висеть на фонаре, знает, что и богач не застрахован от стенки, – и утешается этим. Налогоинспекторов в народе ласково называют «каменщиками», а старая поговорка «Его морда кирпича просит» приобрела на фоне красной стенки новое зловещее звучание.
Аккуратно обходя грязь, Алексей Андреевич возвращался домой. Дождь перестал, и закрытый зонтик служил Алексею Андреевичу тростью. При порывах ветра, как бы приветствуя ветер, брался Старыгин за шляпу. Темнело.
«Не вскрыть ли вены, не принять ли яд? Но чтобы пустить в дело нож, нужна крепкая верная рука, а мои руки давно изменяют мне с ДРОЖЬЮ. Насмешу, чего доброго, кур, сделав вместо глубокого разреза царапину! Из ядов же в моём хозяйстве имеется только уксусная кислота. Я помню, как один мужик, после того как жена не дала ему на водку, опохмелился этой штуковиной. Опохмелился он утром, скорая помощь увезла его после обеда, и только к вечеру следующего дня он поймал кайф. Такие муки ожидания меня не устраивают. Мне нужно БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ средство. Где ты, цианистый калий, где ты, мышьяк, где вы – на худой конец, – братья зарин и заман?!»
Да, велика смерть, а остановиться не на чем. Шёл Старыгин в поисках средства. Вечер шёл, ночь и ещё один день, но так ни к чему и не пришёл. Нервы его стали сдавать. «Пусть судьи решают!» – махнул он рукой и выбросил в мусоропровод электробритву. И когда настал час бритья, Старыгин лишь злорадно усмехнулся. Через некоторое время улика была налицо, точнее на лице. Борода сделала Алексея Андреевича преступником. Он вышел на улицу, сел в трамвай и доехал до Комсомольской площади. Его взяли прямо на остановке.
– Что, боярин, жить надоело? – спросил блюститель, надевая ему наручники.
– Да, – чистосердечно признался Старыгин.
– В таком случае надо было одеться похуже. Сейчас бы уже висел на фонаре. А так придётся передать тебя судьям.
– Да здравствует советский суд! – процитировал Алексей Андреевич популярное кино, а от себя добавил: – Хочу напоследок сыграть в судейскую рулетку.
– Ну-ну, – усмехнулся блюститель, – сыграй!
* * *
Башня Смерти, куда заключили Старыгина, возвышалась в центре города. Собственно, это было не столько высокое, сколько длинное П-образное здание (город под знаком ПИ), дополненное в одном углу небольшой башенной надстройкой, переходящей в шпиль. Так что ЦЕЛОЕ в данном случае носило название своей части – части хотя незначительной относительно общего объёма сооружения, но примечательной с точки зрения архитектуры. Стык башни и шпиля образовывал открытую террасу, ограждённую железными перилами. Днём и ночью, круглый год по террасе кружил часовой. В целом же Башня Смерти представляла собой универсальное заведение правосудия, работающее полный, законченный цикл: суд, тюрьма, казнь.
Что может быть хуже ожидания? В этом плане Алексею Андреевичу повезло. Только раз водили его длинными коридорами к следователю. Дело было ясное, и в следующий раз, через неделю после ареста, он уже спускался на первый этаж, в зал суда.
Зал суда полупустовал. Правда, сюда допускались только родственники подсудимых, но, судя по числу тех и других, родственники на этот раз водились не у всех. Соотношение было примерно 20 к 30. Скамья позора всех не вмещала, и к ней добавили вторую. «Здесь судят оптом», – подумал Старыгин. Ему стало жаль тех несчастных, которые, как и он, не видят в зале знакомого лица, не ощущают поддержки. «Кого за что, а нас судят за одиночество!» Однако прокурор, он же адвокат (эту двойственность его роли подчёркивала надетая на нём мантия, одна половина которой была чёрной, а другая – белой), был иного мнения.
– Ну-с, граждане бородачи, – сказал он, – как вы уже поняли, все вы проходите по одному делу. Как прокурор, я обвиняю вас в нарушении закона о внешнем виде граждан. Только не говорите мне, что вы ничего не слышали об этом законе, существующем 10 лет, или что у вас сломалась бритва, что вы были пьяны или сошли с ума. Это вам не поможет. Напротив, это усугубит вашу вину, поскольку, выдавая детский лепет за серьёзное оправдание, вы тем самым проявите такое же неуважение к суду, какое проявили уже к закону. Уверяю вас: ослов здесь нет, кроме тех, кто сидит на скамье позора. Законопослушный гражданин, не имея бритвы, находит тысячу других способов, как привести себя в порядок. Откуда берутся неестественно красные подбородки и щёки? Люди прибегают к щипчикам, выжигают заразу огнём, терпят боль, но соблюдают правила приличия. А вы решили, что борода – это пустяки, и как-нибудь обойдётся. Нет, закон – это не пустяки! Сегодня вам лень побриться, завтра вы выйдете из дома в тапочках, послезавтра справите свою нужду в подъезде или в трамвае, а через неделю убьёте человека. На что вы надеялись? Разве у вас есть знакомые, которые были бы арестованы по этому делу, а затем отпущены? Таких примеров нет и не будет! И нет вам оправдания!.. Как адвокат, ищу смягчающих обстоятельств, но на фоне ваших волосатых рож все мои доводы выглядят жалкими и надуманными. Слишком наглядна ваша запущенность, ваша вина, и мне ничего не остаётся, как умыть руки. Единственное, что я сумел сделать для вас, – я уговорил уважаемых судей разнообразить ваше наказание и предоставить право выбора вам самим, точнее, провидению. Вы часто упрекаете земной суд в несправедливости и жестокости и противопоставляете ему суд небесный. Что ж, пусть вами займётся рок, а мы посмотрим, что вы ТЕПЕРЬ запоёте! Итак – лотерея смертей! Впрочем, сразу скажу: один из вас вытянет билет жизни, но остальные ему не позавидуют, так как свои дни он проведёт в клетке зоопарка – в назидание подрастающей молодёжи. Остальных ждёт богатый выбор. Нам пришлось поднять мировую историю казней и жертвоприношений, пойти на немалые материальные затраты, чтобы подготовить соответствующие орудия, но в результате все вы умрёте по-разному. Ни один из 30 предназначенных вам билетов не повторяет другой. В списке, например, есть такая прелесть, как «полёт на ядре». Есть «распятие» – и кто-то почувствует себя Христом. А кто-то вспомнит старую добрую Русь, когда будет сидеть на колу. Одному из вас мы дадим покататься на автомобиле… без тормозов. Ну и так далее. Всего не перечислишь. А теперь милости просим поочерёдно к этому барабану (на столе судей появился прозрачный барабан со свёрнутыми бумажками). Как поётся в песне, «барабан не плох, барабанщик – бог». Раз! – и ваша судьба в ваших руках.
Поочерёдно они подходили и вытягивали билеты. И, возвратясь на скамью, разворачивали их. И по скамье прокатилось волнение. Шептались и переговаривались заинтересованно, как дети, получившие подарки.
– У тебя что?
– Расстрел.
– Тебе повезло! А у меня четвертование.
– Как сказать. Сам знаешь, какие сейчас стрелки.
Некоторые вскакивали с мест и громко возмущались: «За что? Вы не имеете права! Дайте мне другой билет!» Но удар дубинкой успокаивал всякого недовольного. А прокурор-адвокат сказал: «Я же сказал: вас судит бог. И все претензии – к нему».
Сидящий рядом бородач обратился к Старыгину:
– Слушай, ты не знаешь, что это за фигня?
Старыгин взял у него билет и прочёл: аутодафе.
– О! – промолвил он. – Мужайся, брат, тебя сожгут на костре.
Прежде чем развернуть свою участь, он мысленно взмолился: «Только бы не зоопарк! Не за этим я сюда пришёл. Всё что угодно, только не зоопарк!» И поначалу обрадовался, когда увидел, что это смерть. Но поняв, КАКАЯ смерть, горько усмехнулся. В билете значилось: отравление спиртным. «Вот она, ирония судьбы! – подумал он. – С чем боролся, на то и напоролся».
* * *
С террасы башни, где кружил часовой, открывался простор. Особенно в сторону реки, к которой сбегала по склону главная улица – Комсомольский проспект.
В синем небе зияла золотая дыра солнца. «Бабье лето пришло на смену мужскому – значит, мне пора, – подумал Старыгин. – Пора пуститься следом за пролетающими птицами и самолётами».
На террасе стояло несколько столиков – что-то вроде летнего кафе, куда охранники поднимались перекусить и чего-нибудь выпить. Старыгина посадили за столик. Палач, одетый в чёрную пару, принёс ему на подносе литровую бутылку водки и два стакана: один с томатным соком, другой пустой. «Кремлёвская, – прочёл Алексей Андреевич на этикетке. – А не мала ли доза?» – усомнился он. На что палач ответил: «Тебе хватит. На всё про всё у тебя полчаса». – «А если меня стошнит?» – «Исключено: в соке есть добавка, предупреждающая реакцию отторжения. Запивай каждый стакан несколькими глотками».
Водка оказалась такой же чистой, как день. Жизнь решила порадовать его напоследок. А может, напротив, тут был злой умысел – вызвать в нём чувство катастрофы. Смотри, мол, как тут хорошо! Но тебя это уже не касается. Ты уже отчалил. Ты отрезанный ломоть. Ты не жилец. «Подумаешь, – ответил Жизни Алексей Андреевич, – видал я тебя всякую. А нам необъяснимое приятно, и непонятное нам друг. – И выпил второй стакан. – Вы хорошие ребята, – сказал он палачу, – но у вас проблема с воображением. Вот как, например, вы назвали мой вид казни? Отравление спиртным. Фи-и! Это приземлённо и, кстати, неправильно. Разве я отравляюсь? Нет, я горю и сгораю. Поэтому советую вам сменить название и написать: “ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ”. Чувствуете, сразу появляются образ, юмор, а главное – точность. Почему двигатель? Потому что сгорающее тело толкает душу, и та, как ракета, преодолевает притяжение земли. Да, моя душа вот-вот взлетит. Но вы не увидите её блистательного полёта. Чтобы увидеть душу, недостаточно надеть галстук и чёрную пару. И лакей, напяливший графский камзол, не превращается автоматически в графа. Только РЫБАК, понимаешь, видит рыбака. Вождь вашего племени говорил: учиться, учиться и ещё раз учиться. А вождь моего пламени утверждает: воображать, воображать и снова воображать!»
Вообрази, я здесь одна.
Никто меня не понимает.
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Впрочем, Татьяна Пушкина с её камерностью не передаёт сути момента. Мы ведь уже не в камере. Мы уже под парами. Нам сейчас ближе Блок с его: