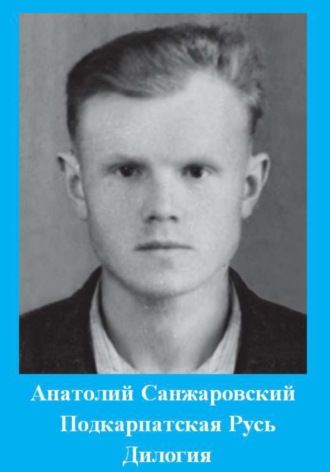
Анатолий Никифорович Санжаровский
Подкарпатская Русь
Головань сиял. Он был во всем сыновьем! Зуделось ему, чтоб молодая, очумело-больная его радость перетекала в близких ему людей из верховинской кучки. Однако этим близким людям не радость несла это зоревая встреча, вовсе не радость. Недоумение, отчуждение и, что заметней всего проступало, было у них большое желание поскорей избавиться от блаженненького полуночника.
– Вам чого треба? Пить чи воды? – угрозливо наконец-то прошамкал Юраш, не отворачиваясь от Голованя и пятясь, утягиваясь в глубь коридорной ночи. – Совсем выпал из разума… Как дурень с печи… С каламанки[18] разыгрывать!
В ответ Головань поясно кланялся, без обиды говорил, что принёс поклон с родного краю и в доказательство протягивал в сумрак пластинку про Верховину.
– Сыны навезли полных два десятка таких пластинок. Берите! Слухайте с утра!
Обеими руками решительно заотмахивался Юраш от подаваемой пластинки, будто от беды какой невозможной.
– Бачу! Гарно туй[19] бачу, што за сынки нагрянули! – ядовито брунчал из темноты, с опаской взглядывая на свежую ссадину на лбу у Голованя, на запёкшуюся кровяную точку под носом.
– Аха… Нагрянули! Оба-два! – сановито светился лицом Головань. – Присоглашаю… Приходьте вечером на забаву…[20] На верховинскую приходьте колбаску… А Вам и подарок… Через сынков Лиза, дочка́ Ваша, прислала своей брынзы да сала…
Мрачный Юраш выступил с засовом на мерклый свет.
Стал медленно, вызывающе закрывать дверь.
– Но Вы ж просили ей прислать под удачу, – сдавленно прошептал Головань в полумрак закрываемой двери.
Ни в первом доме, у Юраша, ни в десятом никто не взял у Голованя песню про Верховину, никто не поверил его словам про приезд сынов – люди шарахались от него, закрывали перед ним двери, закрывали, захлопывали так, что вздрагивали дома; старик не обижался, ему было хорошо, он был во всем сыновьем, он говорил всем правду, хотел рассказать свою правду всему городу, рассказать сейчас, на первом свету дня, не в силах дождаться, когда день войдёт во всю свою власть; покончив с приглашениями, старик присел передохнуть на скамейку в скверике и в счастливой усталости уснул сидя с улыбкой на лице.
А над ним тянулось, клубилось тёмно-серое, сизое сукно низких комковатых туч.
16
И на молодых ветвях колючки растут.
На своём пепелище и курица бьёт,
а петух никому спуску не даёт.
А вечером в названный час никто из гостей не пришёл.
– Ну и не надо. Нам больше достанется, – с весёлой грустью сказал старик Головань. – Баба с воза, спицам легче. Люди мы маленькие, холодильные шкафы у нас здоровые. Перебедуем!
А ведь не бегает худо без добра. Нет большой потери без хотя бы малой выгоды.
Все, кого созывал старик ранним утром, не заменят и срезанного ногтя того, кто сам, не зван пришёл, но кто желанный тут во всякую минуту, покуда жив старик, покуда жива баба Любица. Пришёл Гэс!
– Э-э-э… Светлячок! Светлячо-ок!.. – дрожа вскинутыми для объятий руками и семеня навстречу Гэсу, застонал старик, и всё в доме пришло в движение.
Выбежала старуха. Выбежала Мария. Вывело любопытство Петра с Иваном.
Петру с Иваном было неясно, чего ж это оповещать всему миру, что наявился какой-то русявый сампатяга парень, и они скучно принялись просто наблюдать, что же будет дальше, поскольку повернуться и вот так просто уйти им показалось неудобным.
Замерев в углу гостиной, старуха сложила руки на груди и сострадательно, сквозь печальные слёзы смотрела на парня.
Мария, отжав плечом старика от парня, повалилась парню на грудь и заплакала настояще, как про себя почему-то отметил Петро.
Парень тихонько гладил её по спине, в конфузе краснел и молчал.
Восторженно допытывался дед:
– Какими судьбами, роднушка?
– Узнал, что к Вам, к русинам…
– Мы, Светлячок, – перебил старик, – не дуже гордые… Мы и на руснаков откликаемся…
– Вот узнал, что к Вам в гости нагрянули русины с Карпат. Зашёл посмотреть….
– Ка-ак узнал?
– Проблема! Да в нашем Калгари удержи новость на запорках! На одном конце чихнёт бычок, на другом ему желают крепкого здоровья.
Вылив первые изобильные слёзы, Мария, не переставая плакать, не выпуская парня из рук, словно боясь, что он может снова незаметно пропасть, присела на краёк старого дивана, стоял позади, судорожно давнула книзу сынов локоть. Садись!
– Как ты так можешь?! – горестно, неутешно заглядывая парню в самые зрачки, кинула отрывисто. – Ушёл – и нет целую неделю. Вот так сынок!.. К сердцу камень пудовый… Что ж тебе немило в родном доме?
– Хотя бы то, – с холодным вызовом отвечал Гэс, – что там слишком мило твоему Джимми. Какую гнусность ни сотвори, одни умиления, одни ахи. Ах Джимми!.. Ах Джи!.. Молись на него!.. Да моей ноги не будет в доме, пока он там!
– О Господи, – скорбно всхлипнула Мария и гнетуще повела вокруг глазами, точно призывая всё живое и мёртвое в свидетели. – Как и подымается язык на такое… Почему же это вы, одной крови братья, близнюки, не можете вместе и минуту быть под одной крышей? Неужели вы только и могли ладить, пока жили вот тут у меня? – опустила вялые плети рук к себе на живот. – Неужели от вас, – искательно, просяще смотрела Мария сыну в лицо, – неужели от вас и вся радость, пока носила вас под сердцем? Ну почему, ну почему я сейчас должна ложиться и вставать со слезами? Я мать… – Мария снизила голос до обиженного шёпота. – Понимаешь? Я мать… Я обязана знать, чем занимается мой сын. Я обязана знать, что ест мой сын. Наконец, я обязана знать, где же обитает целую вечность мой сын… Я ж тебя не на улице нашла…
Гэс повинно, уступчиво погладил мать по плечу, ободряюще стиснул ей погибельно тонкий локоток.
– Пожалуйста, засыпай спокойно. Я не хроник[21] какой-нибудь… Не наркоман. Скорая «белая радость» не прельщает меня… Городишко наш не такой уж конченный, как думалось раньше. Я открыл для себя квартал, где «Кому на Руси жить хорошо» читают без перевода.
– На какой? – машинально спросила Мария.
В глазах сына блеснуло недоумение.
Действительно, на какой надо переводить, чтоб можно было сказать, что это наш язык? Ведь в городе что ни квартал – новое землячество. Со своим рисунком дома, свои свычаи да обычаи, свой язык. Но одного, общего языка, роднящего всех, – такого единого языка нет в городе, не говоря уже в целом о стране.
Да что цепляться за всю страну? Возьми ту же голованьскую веточку. Крохотка семья. Но даже у неё не один язык. Дидыко говорит по-русски, бабушка – по-словацки. Языки схожие. Старики порядочно друг дружку понимают.
Мария, конечно, знала и русский, и словацкий, – отец у неё был русский, – да тянется Мария из последнего к английскому. Видимо, это у неё на роду. С Богом контракт не подпишешь. Уже с детьми Мария не проронила ни слова русского, ни слова словацкого, только по-английски, всё только по-английски, потому, упрямая, и упекла и Гэса, и Джи в английскую школу.
Слава Богу, школа школой, но когда Гэс услыхал русскую речь, его пронзило всего доступностью, ясностью, близостью этого языка ему, он заговорил на нём скоро, легко, и было у него такое ощущение, что он слишком долго молчал, оттого молчал, что просто не с кем было говорить (говорить-то было с кем, но не его то был язык лающий, в надсаду ему было ворочать мельничные жернова чужих слов), а тут проломился, заговорил лучисто, раскованно, вольно!
Тяжело смотрел Гэс на Марию.
– Отчего ты так смотришь на меня? – пропаще спросила Мария.
– Всё пытаюсь понять, – надломленно отвечал льдистым голосом Гэс, – зачем тебе понадобилось отдавать меня в английскую школу? Зачем тебе надо было вырывать меня из одной почвы и пересаживать в другую вверх корнями?
– Мой мальчик, – глухо защищалась Мария, – когда я тебя слушаю, у меня распрямляются крепко закрученные извилины. Я глупею твоей глупостью.
– Извини, дорогая, – Гэс выставил ладонь щитком. – Тут полное самообслуживание. Твоя выходка со школой доказывает, что ты прекрасно обходишься собственной глупостью. И не тверди мне, что английский – государственный язык. Я не понимаю государство, которым из-за тридевяти вод правит чужая королева. Я не понимаю государство, которое в официальные языки взяло языки своих же завоевателей и отмело языки своих коренных жителей, индейцев и эскимосов. В таком государстве каждый сам себе государство. Дидыко как что – поёт своё: у нас вот, в Белках… Бабушка: у нас, в Словакии… Ты: у нас, на Бродвее… Спишь и видишь себя на Бродвее, в штаб-квартире твоего компаньона. Что же здесь Вас держит? Доллар? Вам же всё здесь чуже. Все Вы родились в разных странах, там выросли и только беда собрала Вас под одну канадскую крышу. Если помнишь, канадой называлась хижина местных индейцев. И кто мне скажет, что же такое нарисовано на канадском флаге, что это пришлось прикрыть кленовым листочком? Молчите?.. Эта земля дала Вам в лихочасье крышу, дала пищу, только за эту землю Вы не пойдёте умирать, потому что есть вещи намного важней надёжной крыши, намного важней сытного куска. Есть Ро-ди-на… Вот почему, вставая из-за канадского стола, Вы думаете, вы грезите о давно покинутых краях, – Гэс значаще глянул на бездольно жавшихся в углу стариков, – а кому, – он мягко поднял за концы пальцев руку матери, подержал мгновение на весу как бы взвешивая, с медленным тщанием, с печальным укором повёл свободной рукой по холодному золоту на её сине-мёртвых пальцах, заговорил колюче, осудительно, – а у кого Бог взял память и кому не вспоминаются свои места, которые ведут чистые сердца и на бой, и на верную смерть, если надо, тот день-ночь лишь гадает, как бы пожирней выловить кусок из мутной водицы и лакейски лупится в бродвейскую даль…
– Не кощунствуй! – Мария отдёрнула руку. – Бродвей кормил тебя двадцать лет! И без Бродвея нам не прожить!
– Кому это нам? Если ты имеешь в виду и меня, отныне знай: я сам тащу свой мешок, неудобный, смертельно тяжёлый, но – свой!.. Я думаю вот что… А не слишком ли глубоко сидит в каждом из нас эта проклятая лакейщина перед бродвейщиной? Этот южный соседушка, белый шайтан, чихнул – у нас уже лихорадка. Не успел шайтан наварить бойкотной чепухи на постном масле – мы уже против Олимпиады в Москве. Мы сами это решили? Кто из сидящих здесь решал это? Молчите? Думаете, нет ничего умней молчания? Бурю вы переждали в этой земле. Почему же вы по-прежнему не расходитесь? Некуда идти? Пожалуй… Тогда, может, сто́ит все-таки поднять выше свою голову, бедные вы мои непрошеные вечные гости, и, не страшась, не пугаясь, что ты русин или что ты словак, затеять здесь своё, д о б р о е? А получится? Должно… Хотя, конечно, выдернутое деревце не всегда приживчиво на новом месте. Кто мы на этом новом месте? Канадцы? Просто канадцы? Кто такие эти канадцы? Один чудак за ответ на этот вопрос получил газетную премию. Он ответил: «Канадец – это я, так как я не англичанин, не француз и не американец; я живу в Канаде, поэтому я канадец». Я родился здесь. Я бы мог ответить его словами. Но я не могу ответить его словами, потому что я не знаю, что такое Канада. По-моему, Канада – это… это белый лист, на котором самой Канадой что-то написано. Только что? Я пока разобрать не могу. Напишем ли мы, молодые? Что напишем? Когда напишем? Ка-ак напишем? – Гэс задумчиво помолчал. – Я напишу про то, кому в Канаде жить хорошо.
– И кому же? – с ехидством поморщилась Мария.
– Немногим. Таким, как, извини, ты… бродвейская пристяжка. Как твой Джи. Я вам ещё докажу, что честность не такой уж страшный грех.
– Доказывал твой отец. Где он сейчас?
– Погибнуть, зная, что ты прав, разве этого не сто́ит жизнь?
– Не стоит, малыш… Жизнь не ложе из роз и по ней надо идти где бочком, где ползком…
– О! Попала матуля в свою колею! Не забудь выдать коронный свой совет: хочешь ходить по вершинам – научись сперва ползать!
Сухой дощечкой руки Мария глухо пришлёпнула по дивану:
– Да! Ползать!
– Увы, я не змея. Ползать не научен и не собираюсь учиться!
17
Всякая ссора красна мировою.
Если бы в сердце дверцы – весь свет знал бы.
Спор матери с сыном, пропавшим и вдруг через неделю объявившимся и то к случаю приезда гостей, принимал нелепые, больные формы.
Нелепость, неуместность спора, кстати, сказавшего Петру с Иваном больше кип прочитанного об этой стране накануне, были всем очевидны. Полон стол яств, – готовили-то на всю Маланьину свадьбищу! – но ни одна холера из званых гостей не пришла, так зато, будто в отместку, собрались наконец-то нежданно все свои. Самый раз надо бы поближе к столу, к вину – подняли эту чёртову свару!
И странное дело. Чем всё заметней брал верх Гэс, Петру всё больше становилось жалко Марию. Почему? Этого он не мог себе сказать. Дважды порывался он раскидать спорщиков и всё осаживал себя: гость не указ хозяевам.
Как-то по-детски хорошо, светло обрадовался Петро, когда сомлелые старики союзом навалились на крикунов.
– Светлячок! Марушка! Да вы что дуроломите?! Показились! Хрипите уже, попадаете с руготни… А ну кончай сплетни сплетать! Ей-бо, ог-г-гре-ею – перег-гре-ею-ю-у!
Со всего плеча замахнулся старик трёхметровой трембитой, так что и Мария, и Гэс, увидав её, опускающуюся, обомлело брызнули врассып по дивану; в широкий прогал между ними старик опустил-таки трембиту, весело пропел:
– Отбо-ой!..
Вся гостиная рассмеялась.
Похоже, и Мария, и Гэс были сами рады тому, что спор так внезапно обломился.
Мария выплакалась, выговорилась.
Теперь ей смеялось легко, ясно.
Посветлел лицом и Гэс; доверчивая, одобрительная улыбка дрогнула в уголках его тонких ласковых губ.
– Какая огро-омная дубина! – ликующе воскликнул он, подсаживаясь к трембите и пробно стуча по голоснице[22] пальцем. – Это что… Дубасить кого?
– У всякой вещи своё назначение, – уклончиво, надвое проронил старик и с внутренним озарением поднёс трембиту к губам.
Гортанный, тревожный звук могуче толкнулся в стены, и стены одна труха, отшатнулись, заходили на месте в извиве, готовые вот-вот рухнуть – всё это привиделось Гэсу всего на какой-то миг. Привиделось и пропало.
А голос, какой голос…
Голос не пропадал, стоял в ушах; стонало в этом голосе гнетуще-безмерное горе, гремел тугой, мятежный зов к чему-то высокому, чистому, названия чему Гэс не знал.
– Дидыко! Я слышу голос большой беды, – запальчиво вышепнул Гэс. – Голос беды… Зовёт на помощь… Голос беды… Это и яростный, повелительный голос… тревоги…
Мария перебила Гэса.
– Это, малыш, – прикрывая рукой зевающий рот, проговорила она тоскующе, – рёв оленя, переполненного в гон похотью.
– Не надо о себе говорить в третьем лице! – озлённо отхлестнул Гэс, и Мария оскорбилась, с вызовом, вихлясто вышла из гостиной.
Вкоренилась тишина.
– Дидыко, – обнимая старика за плечи, доверительно говорил Гэс, – я вижу, тебе очень дорога трембита. Расскажи, пожалуйста, про трембиту.
Старик благодарно кивнул. Задумался.
Сидя с Гэсом на диване, напротив праздничного стола, тесно уставленного едой и питьём, – варилось-жарилось на Бог весть сколько народу, а собралось всего с ничего, одни свои, – и видел старик себя там, на полонине, видел молодого, неизжитого, крепкого овчара с трембитой…
Трембита – дитя любви, говорит легенда.
Любила дивчина овчара. Настал май и пришлось провожать овчара со стадом на половину.
– Я не проживу без твоего голоса, – сказала дивчина.
– Ты его услышишь, – пообещал парубок.
Отыскал парубец разбитую громом ель, певшую на ветру, сделал из той ели трембиту.
И каждый вечер слышала дивчина песнь громового дерева, слышала голос милого. Пел ей милый о своей любви.
Дивчина была красивая, ласковая, быстрая. Звали её Белка. Была она из бедной семьи.
Нравилась Белка и пану. Подобрал пан момент, завлёк к себе, решил невинности.
Не снесла такого сраму Белка, утопилась в речке, что лилась по сельцу.
Не спустили пану дикого лиходейства крестьяне-бедаки: самого живьяком закопали, а имение спалили. А той речке дали имя девушки – Белка. И своё сельцо стали звать Белками.

Трембачи на полонине
И заплакала трембита о беде.
С той поры пошли по округе трембиты.
Минули долгие века, но трембиты делали по-старому, так, как тот влюбленный овчар. Выбирали обязательно старую, вековую, поражённую молнией ель, про которую говорили: живу – молчу, умру – пою.
Трембиту родила любовь.
Да не только про любовь пела трембита.
Наваливалась беда – с горы на гору трубила трембита, оповещала о беде, звала мир в помощь.
В молодую пору исходил старик со своей трембитой всю Верховину, пас овец панских и никогда не разлучался с трембитой.
Все голоса, все звуки Верховины забрала трембита в себя; и не было старику дороже посланницы оттуда, из молодой, чёрной и всё ж по-своему радостной жизни.
Годы, годы…
Вы прокатились вешним потоком с кручи…
– Тогда, там, у нас в Белках, были мы нищие, – тоскующе, с придыханием выталкивал из себя старик слова, тяжёлые, обвинительные. – Но мы были людьми, на чужу беду откликался всяк бедак. Подсоблял как мог. Тута же мы заросли сытостью, безразличием. Люди давнушко померли в нас и случись что с кем, кликни кто в помочь – ша, на дурничку не проедешь! Поплотней замахиваем шёлковые шторы на своих норах, выключаем свет. Нас нет дома и век не будет!
– Дидыко! – с нарочито солидным укором всплыл Гэс. – Да не клевещешь ли ты на наш шайтанский филиал рая?! За таковские речи могут и против чёлки угладить.
Старик молча взял Гэса за локоть, потащил по лестнице наверх.
– Куда? Зачем?
– Вопросы на потом.
С бегу настежь распахнул старик единственное окно в Петровой комнатёшке, выставил на простор трембиту и изо всей силы, что ещё сберёг в нём Бог, стал играть, багровея от натуги.
Играя, остановившимися глазами, немигаюче пялился старик на дом напротив и движением головы неотложно требовал, чтоб и Гэс последил за тем домом.
Гэс добросовестно вытаращился на окно, совсем близкое, всего-то через пыльную узкую уличку и увидал, как из-за сбитой к краю бледно-розовой, без цветов, шторы воровски вывалилась половина старого лица и тут же удёрнулась. Спустя мгновение шторы глухо, закатно затянули окно.
– Ку-у-у-ум, – упавше потянул старик в ещё качавшиеся шторы на окне. – Какого ж ты лешего таишься? Я ж утром в гости кликал. Сыны у меня!.. Приди забери брынзу. Лизка передала. А то выкину псам!
Тяжесть успокоила своим весом шторы.
Перестали шторы ходить. Затихли.
– Видал! – тыча в кумово окно, расшибленно пальнул старик. – Идолова заокеанщина! Кум куму боится показать нос. А ну кум в беде! Как же к куму пойти?.. А я с ним у одного пана в Белках овец стерёг. В соседях жили… Вертелись, как береста на огне. Вместе парубкували, с одной на двоих тайстрой[23] качнулись на заработки. Вместе уже тут, в канадской стороне, бедовали… Хва-а-атили ж мы горчанки… Как вспомнишь, сколько сидели на снегу[24]… Поначалу всяку беду ломали пополам. А потом уже, как залучшело, как стали подыматься на боеву ногу – дальшь, всё дальшь друг от дружки… Дома рядом, через уличку. Да мы как далеко один от одного! И эта уличка уже и не уличка, а государственная граница. И живём мы в разных с ним в государствах, говорим совсем на разных языках. На разных! – в осудительной тоске подтвердил, почти выкрикнул старик. – На свой манер переплела нас чужина. Растеряли, раструсили мы здесь всё людское…
Старость многоговорчива.
Головань не выпал бы в исключение, пригнетённо не зазвони где-то внизу, у входа, телефон.
К телефону подходил только старик, так уже велось в этом доме, и старик, панически всплеснув руками, дёрнулся на звон.
Звонил знакомый доктор, брал недорого, оттого и самый дорогой Голованям. Во всякий крайний случай именно этому доктору Головани несли свои болячки.
Выяснив, что старик совершенно здоров, доктор, по совместительству и мастер солёного слова, цветасто выругался. Оказывается, весь день гнали ему звонки, всё допытывались, в каком состоянии доставлен в больницу сам Головань. Очень удивлялись, когда им отвечали, что никакой Головань в больницу во весь день не поступал.
– А вы им скажить, ежли ещё названивать кто увяжется, Головань не помирать – жити, жити Головань собрался! То тогда он помирал, как сыны были Бог знай где. Но теперьше! Приехали сынки! По-людски, от души звал тех чёрных звонкарёв на забаву. А они прими за больного. Носа даже не кажут, жмутся. А ну и в сам деле снова тяжко захворал, подмогай ещё чем… Первый раз за всю тутошнюю жизнюку я такой добрун, зову к себе за стол всякого русина. Приходьте ж и вы…
Доктор сказался занятым. Не пришёл.
Однако без гостей со стороны не обошлось.







