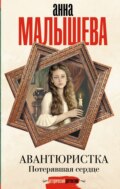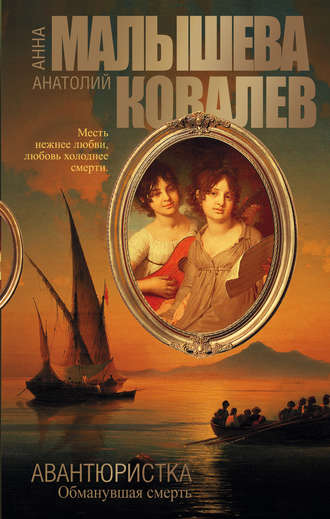
Анна Малышева
Обманувшая смерть
Он решил надеть костюм Арлекина.
– Не в лапсердаке же идти к нему! – с презрением бросил циркач. – Костюм шута – вот самый подходящий наряд, чтобы предстать перед Его Величеством!
Иеффай быстро оделся и загримировал лицо.
– Шут скажет много неприятных слов царю, – сообщил он на прощание своему изображению в оловянном чайнике, служившем ему одновременно зеркалом. – И пусть меня потом хватают, секут и сажают в карцер!
От мальчишек, бежавших смотреть на императора, он узнал, что шествие сейчас проходит по Лубянской площади. Иеффай хорошо ориентировался в этой части города, и, миновав несколько переулков, вскоре оказался на Мясницкой. Он выбежал на мостовую и увидел, как на него движется огромная толпа людей, во главе которой едет на вороном коне император. На нем был черный мундир с красными эполетами, без аксельбантов и орденов и черная треуголка. Лицо государя показалось Иеффаю неестественно бледным и безжизненным. Толпа, шедшая за ним, не производила обычного гула, свойственного большому скоплению людей. Все шли молча, только изредка сквозь топот и шарканье тысяч ног слышались одинокие выкрики, здравицы царю. Эта молчаливая, полная предгрозового напряжения толпа оставляла жуткое впечатление. «Так же молча они растопчут меня, не оставив и следа… – промелькнуло в голове у Иеффая. – Растопчут кого угодно!» Все-таки он нашел в себе силы сделать несколько шагов навстречу «тирану», «кровавому Асмодею», столь безжалостному к еврейским детям.
Когда маленький Арлекин с размалеванным лицом, вынырнувший неизвестно откуда, встал на пути императорского кортежа, шествие остановилось.
– Кто это такое? – воскликнул граф Толстой.
– Ребенок? – удивленно поднял брови Николай.
– Нет, по всей видимости, карлик, – возразил ему Бенкендорф.
– И явно из жидов, Ваше Величество, – тотчас с авторитетным видом определил генерал Храповицкий, – я их по глазам узнаю.
– За кого-то хочет просить, очевидно, – заключил шеф жандармов. – Чего тебе? – обратился он к Арлекину.
Иеффай все время, пока его обсуждали, стоял как вкопанный и не мог произнести ни слова. Он смотрел, не моргая, в глаза императору. Говорили, будто в гневе у Николая в левом глазу загорается «раскаленный гвоздь», и от этого зрелища можно сойти с ума. Сейчас ничего подобного не наблюдалось. Император не гневался на шута, а, напротив, смотрел на него с жалостью и даже, как показалось Иеффаю, с сочувствием.
– Шуты обыкновенно остры на язык, – с ухмылкой заметил граф Толстой, – но этот оказался немым.
Тем временем Цейца уже обступили с двух сторон жандармы. Однако император сделал знак, чтобы они удалились, и сам обратился к карлику, желая его подбодрить:
– Говори же, не бойся! Шут не должен бояться царя.
От этих слов, произнесенных спокойно, участливо, у Иеффая подкосились ноги. Он упал на колени и зарыдал от бессилия. Слова упрека, которые карлик готовил, чтобы бросить их императору, высыпались у него из памяти, словно мелкие монеты из дырявого кармана. Язык одеревенел так, что стал совсем неподвижен. Сквозь застилавший глаза кровавый туман Иеффай успел еще увидеть, как ладонь Николая потянулась к треуголке. Император отдал ему честь! В тот же миг чьи-то сильные руки подхватили Иеффая под мышки и, словно тряпичную куклу, понесли куда-то в сторону от мостовой.
Шествие, всего спустя миг, продолжилось.
В подворотне, темной и сырой, карлика опустили наземь. Цейц даже не взглянул на своего спасителя или похитителя – он никак не мог успокоиться. Его душили истеричные рыдания, слезы лились ручьем. Размазывая их по густо положенному гриму, он превращал лицо в смешную и страшную маску.
– Ну, будет тебе! – раздался над ним хриплый незнакомый голос. – Чего тебя понесло-то к царю? Будто не знаешь, как он вас, жидков, «любит».
Иеффай часто заморгал, поднял голову – и онемел. Над ним склонялся Геракл.
– Ну, что молчишь? Язык откусил? А раньше трещал будь здоров! Не остановишь… – усмехнулся напарник.
– Я откусил, а ты, видно, подобрал, да и пришил его себе! – волшебным образом обрел дар речи Цейц. – Какого лешего ты столько времени молчал?! Поговорить было бы с кем!
– Молчал я ровно три года, – вздохнул Геракл, – такова была епитимья, наложенная на меня священником… – Он сделал паузу, а потом, махнув рукой, произнес: – Впрочем, тебе этого не понять, ты еврей.
– Что ты заладил – то «жидок», то «еврей»! Забыл, как меня зовут? – возмутился Иеффай.
– Все едино, – хрипло пробасил верзила, – Иеффай, Мордехай или Шмулька какой… Ваше племя распяло Христа и должно вечно страдать за это! Думаешь, я не понимаю, почему ты полез к государю-императору? Ведь ты рассказывал мне о своем младшем брате, который повесился, не пережив крещения. Хотел царю бросить в лицо свою обиду? Д-дурак! Терпи, коль веруешь! Уповай на Бога! У меня, может быть, не меньше твоего накопилось в душе… Однако же я терплю…
– Ей-богу, лучше бы ты продолжал молчать! – воскликнул в сердцах Иеффай. Он был нешуточным образом оскорблен словами напарника.
Цейц решил закончить всякое общение с Гераклом, который, обретя дар речи, одновременно утратил всякую приятность общения. Карлик понятия не имел, как справится в одиночку и прокормит ли его скрипка без дополнительного номера, но собирался скорее вернуться домой. Там, в тишине и покое, он помолится и, Бог даст, что-то сообразит… Сделав несколько шагов и обернувшись, он увидел, что верзила следует за ним.
«Как собака, – подумал Иеффай, – большая, глупая собака… Куда же ему еще идти, как не за мной следом?»
Нахмурившись, Иеффай отвернулся и зашагал дальше. Он совсем не был расположен прощать преобразившегося Геракла. Силач был совсем не похож на того человека, с которым он несколько месяцев кряду делил комнатку на чердаке, на безмолвного, со всем согласного верзилу. У этого нового Геракла был довольно злой язык, да еще хорошо подвешенный, каковым достоинством обычно не блещут цирковые силачи.
Мясницкая обезлюдела. Кажется, весь город устремился в одну сторону – вслед за императорским шествием. Даже самые бойко торговавшие магазины и лавки оказались закрыты.
– Да погоди, не семени, не убежишь все равно! – услышал Иеффай у себя за спиной спокойный голос Геракла. – Ты, я смотрю, обиделся, а я-то вовсе не собирался тебя обижать. Отвык говорить, ну и ляпнул! Ты меня прости, коль задел за живое. Ну?
Напарник поравнялся с ним, сделав один широкий шаг, и, протянув руку, вопросительно произнес:
– Мир?
Подумав немного, Цейц все-таки вложил свою крохотную лапку в огромную ладонь верзилы. Он не умел долго на кого-то злиться и таить обиду.
– Ну, если объявился, то ступай-ка скорее, забери свои гири у Самуила, – снова, как прежде, начал командовать он. – А если этот кровопивец Шмулька, распявший твоего Христа, заикнется о деньгах, покажи ему кулак… И напомни, что три дня еще не прошло! А то он тебя околпачит…
– Да ты не бойся! – радостно откликнулся прощенный Геракл. – У меня не вывернется!
Он прибавил шаг, сворачивая в сторону Хитрова рынка. А Цейц, глядя ему вслед, вдруг осознал, что до сих пор не знает настоящего имени Геракла.
– Погоди! – окликнул он верзилу. – Как мне теперь тебя звать-то? По-старому, по-цирковому, или ты мне имя скажешь по такому радостному случаю, что ты больше не немой.
– Велика радость, – усмехнулся Геракл, – тоже мне, праздник какой! Если хочешь, кличь и дальше Гераклом, я привык. Ну, а не желаешь – так Афанасием зови!
Махнув на прощание, он исчез в кривом узком переулке, направившись в недра Хитровки разыскивать «кровопивца Шмульку», мечтавшего присвоить кормившие циркачей гири.
* * *
Наш старый знакомый, спаситель и благодетель Елены, Афанасий Огарков провел на каторге в общей сложности пятнадцать лет. В юности его осудили за раскольничество, и он отбыл свой первый срок в горных заводах Пермского края. Каторга, являвшая собой ад на земле и особенно под землей, не сломила его, но озлобила, сделала замкнутым и недоверчивым. По освобождении он связался с лесными братьями-разбойниками, но вскоре был пойман в Москве, заключен в кандалы и ждал нового этапа. Однако случилось невероятное. К городу подошла французская армия, и московский генерал-губернатор граф Ростопчин распорядился выпустить из тюрем всех заключенных с условием, что они подожгут город. Для этих целей еще за несколько недель до сдачи Москвы в поместье князя Репнина, расположенном в шести верстах от города, был выстроен специальный арсенал для изготовления всякого рода фейерверков, ракет и других взрывных приспособлений. «Огненные снаряды» были выданы колодникам в огромном количестве. Граф Ростопчин отдал приказ главному полицмейстеру Ивашкину по возможности вооружить поджигателей, разбить их на группы и приставить к каждой группе двух-трех переодетых полицейских. Выдать колодникам огнестрельное оружие Ивашкин побоялся и, в конце концов, после долгих колебаний снабдил преступников пиками. И генерал-губернатор, и главный полицмейстер не могли не понимать, что оружие это будет в первую очередь направлено не против французов, а против простых горожан, по тем или иным причинам оставшихся в своих домах. Но настолько велико было желание поджечь Москву, чтобы обескровить врага, лишить его продовольствия и заставить сидеть в сожженном городе, что на подобные мелочи никто не обращал внимания.
В первые часы по оставлении русской армией Москвы колодники, почувствовав свободу и полную безнаказанность, как стая диких зверей, бросились грабить богатые дома, поднимая на пики дворовых людей, насилуя женщин, если таковые попадались им на пути. Переодетые в штатское полицейские не препятствовали разбою. Но были среди поджигателей и настоящие патриоты, свято верившие в то, что пожар Москвы остановит наполеоновские орды. Они не марали свои руки грабежом и насилием. То были студенты Московского университета, семинаристы, казаки, раненые солдаты, простые горожане. «Они смотрели на это дело как на заслугу перед Богом», – писал о них впоследствии аббат Сюрюг. «Наполеон не хотел сначала верить, что можно было прибегнуть к такой крайней мере, – вспоминал далее французский священник, – но многочисленные поджигатели, захваченные со взрывчатыми веществами, подтверждали достоверность слуха, и многие из них были приговорены к расстрелу». И конечно, самым усердным помощником поджигателей стал сильный, с каждым часом усиливавшийся ветер.
Афанасию тогда не досталось пики. Он нес огромный мешок с «огненными снарядами». Раскольник, каторжник, лесной разбойник, Афанасий никогда раньше не задумывался над тем, патриот он или нет, любит ли свою Отчизну? В эти роковые для народа и государства минуты Огарков испытывал лишь привычную ненависть к сильным мира сего: к аристократам, к богатеям, а также к несправедливости всего мироустройства, где одни так легко отправляют на каторгу других только за то, что те бедны, беззащитны и молятся иначе, чем велит придуманный богатыми закон. Он с огромным наслаждением поджигал особняки и дворцы, им овладела безумная страсть к разрушению. Товарищи ругательски ругали его за то, что он слишком торопится и не дает им как следует пограбить.
Правда, в одном дворце он и сам задержался надолго, завороженный его роскошью, бесконечной анфиладой раззолоченных комнат и залов. «Зачем одному человеку столько всего понадобилось? – недоуменно спрашивал себя Афанасий, невольно начиная ступать на цыпочках. – Али семья у него большая?» Он обнаружил незапертой дверь в кабинет хозяина дворца. Здесь на стене висел темный персидский ковер, украшенный саблями, кинжалами в серебряных оправах и роскошным старинным ружьем. Камин, облицованный яшмой кроваво-красного цвета, уральской яшмой, так хорошо знакомой Афанасию по каторжным каменоломням, был полон еще теплого пепла. Взломав письменный стол, Огарков обнаружил в ящике два инкрустированных перламутром футляра. В одном лежали дуэльные пистолеты, в другом – весь приклад к ним, включая пули и пыжи.
– Вот это – настоящий клад! – радостно воскликнул Афанасий и, зарядив пистолеты, засунул их за пояс крест-накрест. Пулями и пыжами он набил карманы своего заношенного до дыр кафтана.
В этот миг где-то в глубине дворца раздались крики его товарищей. Афанасий насторожил слух и разобрал: «Французы! Братцы, бежим!» Затем послышались выстрелы.
Афанасий, недолго думая, поджег «огненный снаряд», бросил его к двери, а сам выпрыгнул в окно. Едва он коснулся ногами земли, за его спиной раздался взрыв, и кабинет неизвестного вельможи озарился ярким пламенем. В недолгое время запылал и весь дворец – его великолепное убранство послужило отличным топливом.
…Афанасий не стал дожидаться товарищей, не узнавал об их судьбе. Да и не считал он товарищами случайно сбившихся в стаю преступников. Афанасий всегда держался обособленно и на каторге, и среди лесных разбойников. Ни в ком он не принимал участия, никого не подпускал к себе близко, даже староверов сторонился.
Огарков прекрасно себя чувствовал в одиночестве, особенно в такие страшные минуты. Он перебежал по мосту на другой берег Яузы, где было еще относительно тихо. Северо-восточный ветер уводил пожар в другую сторону. По яблоневому саду поджигатель поднялся вверх к роскошному особняку, который приметил еще с моста.
Старик-конюх, дававший в это время лошадям сено, при виде колодника с факелом в руке бросился ему наперерез. Расставив широко руки, он истошно завопил: «Не пущу, куды, куды! Не пущу! Ступай куда еще ни на то, чертяка окаянный! В доме люди, господа дома!» Именно на слуге Афанасий испробовал свою обнову, выстрелив старику в грудь из дуэльного пистолета. Тот со стоном повалился наземь и больше не шевельнулся. Решив, что конюх прилгнул про господ, чтобы спасти дом от пожара, Огарков, не раздумывая, разбил окно на первом этаже и кинул в гостиную зажженный факел. Потом он метнулся к гостевому флигелю дома Мещерских, намереваясь поджечь и его, но внутри и впрямь послышались голоса. Однако то были не хозяева особняка – там уже вовсю орудовали французы. Увидев, что основное здание горит, они выбежали на крыльцо. Афанасий успел отпрыгнуть в сторону и спрятаться за колонной. Два подвыпивших гренадера изумленно таращились на огонь и наперебой громогласно восклицали: «Ба?!», дивясь, как пожар перекинулся сюда с другого берега Яузы. Они бы непременно дали деру и поживились бы в более безопасном месте, если бы из противоположного флигеля не выбежала во двор охваченная паникой молоденькая девушка. Не сговариваясь, оба француза ринулись к барышне. Наблюдавший всю сцену Огарков тем временем перезарядил пистолет…
– А ведь мне вовсе не хотелось там оставаться, – признавался он Иеффаю, когда они сидели вечером на своем чердаке при свете догорающей свечи. Медленно потягивая медовуху, Геракл исповедовался маленькому еврею в своих больших грехах. – Если бы я тогда ушел, плюнув на этих французов и на барышню, которая непременно стала бы их добычей, может быть, меньше бы мучился потом? Как считаешь? – И, не дождавшись ответа, продолжил: – Этот окаянный дом с колоннами, старый конюх, барышня, сожженные заживо ее мать и нянька преследуют меня всю жизнь!
– Но если бы ты не спас девушку от насильников, твои грехи бы еще приумножились, – рассудительно заметил карлик.
– Теперь я понимаю, что это была ловушка, в которую меня загнал сам сатана-искуситель… – со вздохом продолжил Афанасий. – Французов я пристрелил как токующих тетеревов… Барышня же в отчаянии хотела броситься в огонь, чтобы умереть вместе с матерью, но я не дал ей этого сделать. Вытащил уже почти из пекла и приказал бежать к реке…
Сам Огарков еще несколько дней провел в оккупированной неприятелем Москве, прячась в подвалах и погребах сожженных домов. Ночами он выходил из своего убежища, чтобы снова и снова поджигать дома.
Город в эти дни представлял собой ужасное зрелище. Всюду валялись разложившиеся трупы лошадей, на полуобгоревших деревьях и фонарях висели бездыханные тела поджигателей. Убежавшие от пожара в ближайшие леса горожане постепенно возвращались. Голодные, полураздетые, словно пьяные от горя, они бродили по пепелищам собственных домов, тщетно отыскивая в остывшем пепле съестные припасы. Выгребали из-под груд хлама кровельное железо и сооружали шалаши-времянки вокруг остовов печей. Афанасий видел, как матери приводили к французским солдатам своих несовершеннолетних дочерей и в слезах умоляли дать им хоть какой-нибудь еды в обмен на девственность. Страшно и больно было смотреть в их помертвевшие лица. Афанасий вспоминал белокурую голубоглазую барышню из дома у Яузских ворот и с тревогой думал: «Спаслась или нет?»
Когда огненные снаряды закончились, Огарков, наконец, решил покинуть Москву и пробираться на север.
– И кто бы мог поверить, что в костромских лесах, в стане разбойников, спустя полгода я вновь повстречаю эту московскую барышню? – покачал головой Геракл. – И опять мне пришлось ее спасать, как будто Господь приставил меня ангелом-хранителем к этой девушке…
Он рассказал Иеффаю, как помог Елене добраться до Санкт-Петербурга, как они поселились на Васильевском острове, в доме его сестры Зинаиды, державшей в ту пору табачную лавку, и как проникли на бал-маскарад в Павловске, к матушке-императрице. Этот бал оказался для Афанасия роковым. Он был пойман, разоблачен и вновь отправлен на каторгу.
– Ради этой барышни я пожертвовал свободой, – бил себя в грудь уже слегка захмелевший Геракл. – Ведь я сунулся в самое пекло, когда, напротив, надо было бы схорониться в каком-нибудь раскольничьем скиту, подальше от столицы. А я дорогим гостем явился к самой матушке-императрице на поклон! Да только меня не звали в те гости-то… И все ради нее…
– И ради себя тоже, – поучительным тоном вставил Иеффай. – Ты стал ее вечным должником, помни! Ты убил ее мать и лишил ее дома!
– Ты, как всегда, прав, еврей, – Огарков ни за что не хотел называть напарника по имени. – Я чувствовал свою вину перед этой юной графиней и так и не признался ей в содеянном. Она считала, что это те два пьяных француза подожгли ее дом и застрелили старика-конюха. И до сих пор, наверное, так считает…
– Откуда ты знаешь, что она жива? – возразил карлик. – Ты разве потом видел ее?
– Ты тоже ее видел…
В тот момент, когда Елена, переодетая служанкой, подошла к ним на Хитровом рынке, Афанасию показалось, что он спит наяву и ему грезится сон из прошлого.
Когда они в тринадцатом году квартировали у его сестры Зинаиды на Васильевском острове, гардероб юной графини был более чем скуден. Роскошные наряды сгорели в том роковом пожаре, а те, которые успел купить ей дядюшка Илья Романович, рассчитывая, что племянница станет его женой, Елена с брезгливостью бросила в заново отстроенном особняке, там же, в Москве. Траурное, лиловое платье «московских осиротевших невест», подобное тому, какие носили в ту печальную пору многие ее сверстницы, полученное в качестве подачки от провинциальной благодетельницы, то самое платье, в котором она обвенчалась со штабс-капитаном Савельевым, ей опротивело. Оно напоминало ей только о тяжелых моментах, оскорблениях и обмане. Поэтому, оказавшись в Петербурге, юная графиня облачилась в старое, поношенное, черное платье Зинаиды. Правда, она и в нем не выглядела ни горничной, ни приказчицей из магазина.
И вот, семнадцать лет спустя, Елена вновь предстала перед Афанасием в простом черном платье служанки и в плаще без всяких украшений. Это был совсем не тот наряд, который можно было увидеть на богатой даме! Сердце Геракла в тот миг оборвалось. Все эти годы, когда приходила особенно тяжелая минута, он вспоминал Елену, воображая ее вновь возвышенной, поправшей своего врага, одетой роскошно, кушающей тонкие яства с золотого блюда… И ему становилось легче, и в его сердце, где прежде жила лишь лютая ненависть к богатым и знатным особам, крепло торжествующее чувство осуществленной мести. Да, он пойман, посажен на цепь, и может быть, в этой мерзлой земле, среди лютых людей, где негде услышать человеческое слово, его и схоронят. Но она теперь счастлива и богата, а сделалось это благодаря ему, никому не известному острожнику, всегда угрюмому, молчаливому! Только так и мог торжествовать этот человек, только этой верой он и жил. Теперь Афанасий был уничтожен. Значит, напрасны были все их старания? Зря они пробирались в Павловск, чтобы увидеться с матушкой-императрицей и восстановить справедливость? Даром он дался в руки солдатам и вновь тянул проклятую каторжную лямку? «Его графиня», как он про себя давно называл Елену, осталась ни с чем!
– У меня будто разум помутился, и я пошел за ней следом. Сам не понимаю зачем.
– Ты и впрямь был похож на сумасшедшего, – авторитетно подтвердил Иеффай.
Но вскоре Афанасий понял, что ошибся. Елена жила в богатом особняке на Маросейке. Сначала он подумал, что этот дом принадлежит той самой индианке, но, расспросив местных мальчишек, узнал, что особняк недавно сняла французская виконтесса со своей воспитанницей-индианкой. «Вона, вишь, легка на помине!» – указали ему на выходящую из дома виконтессу.
– Когда я увидел ее в богатом платье, от сердца сразу отлегло, – признался Геракл. – Думал, не вернуться ли мне к тебе на рынок? Ну, кто она теперь стала и кто я? И о чем нам говорить? Она ведь меня даже не узнала…
– Вернуться было бы разумней, – кивнул карлик.
– А вышла она на крыльцо затем, чтобы встретить твоего друга Глеба, – продолжал Афанасий. – Знать, увидела из окна, как он приехал на извозчике… Поджидала!
– Верно, – снова кивнул Иеффай, – она и приходила к нам, чтобы узнать его адрес, потому что та прелестная индианка, ее воспитанница, сильно заболела.
– Я схоронился на другой стороне улицы, в небольшом садике, где ограда в одном месте была сломана, и наблюдал оттуда за крыльцом, – Афанасий вздохнул так тяжело, словно ему давила на грудь одна из гирь. – Хотелось еще поглядеть на нее, убедиться, что удалось ей богатства достичь! Уж больно в нищете жить горько! Когда они с твоим приятелем Глебом вошли в дом, я хотел уже покинуть свое укрытие, как вдруг заметил тут же, в садике, за старым каштаном, прячущуюся женщину. Она тоже следила за домом!
Извозчик, привезший молодого доктора, ждал у особняка на Маросейке. Вскоре Огарков увидел, как Глеб выносит на руках девушку, закутанную в плащ, и садится с ней в карету. Следом за ним сели Елена со служанкой, после чего извозчик тронул лошадей. В тот же миг женщина, стоявшая за каштаном, покинула свое укрытие и быстрым шагом пустилась по мостовой вслед за каретой. Ей легко было не упускать из виду свою цель, потому что карета ехала медленно, по всей видимости, из-за тяжелого состояния больной индианки.
Афанасий немедленно выбрался из засады, перешел на другую сторону улицы и направился в ту же сторону, не упуская при этом из виду ни женщину, ни извозчика. Он пытался понять, что представляет собой загадочная незнакомка, по ее платью, но безуспешно. Платье было скромное, черное, с потрепанным подолом, который иногда, обходя лужу, женщина поднимала слишком высоко, отчего мелькали не слишком свежая нижняя юбка и стоптанные каблуки ботинок. Преследовательница держалась прямо и даже при быстрой ходьбе умудрялась сохранять некоторое изящество походки. С ее плеч свисала кашемировая шаль – такие шали, некогда роскошные, как и лилейные плечи, которые они обвивали, а ныне полинявшие и заштопанные, сотнями продавались на Хитровке для нужд тамошних красавиц. На голове у незнакомки красовалась шляпка, которую она не без шика носила на самом затылке. В целом со спины она не казалась ни обедневшей благородной дамой, ни особой легкого поведения, ни служанкой, ни мещанкой. Это было нечто неопределенное.
– Так мы и шли от Маросейки до Яузских ворот. Мне все время хотелось забежать немного вперед, чтобы разглядеть лицо женщины, следовавшей за каретой, – признался Геракл, – однако я опасался ее спугнуть. Мне нужно было узнать, зачем она пряталась, почему следила за графиней? Теперь уж за виконтессой… – поправился он с грустью, словно новый титул, приобретенный Еленой, отнимал у совершенного им ради нее подвига часть блеска.
– Ты сказал, до Яузских ворот? – встрепенулся Иеффай. – Неужели Глеб повез больную девушку в дом своего отца?
– А ты почем знаешь, что там живет его отец?
– Я однажды был в том особняке много лет назад в гостях у Евлампии.
– Так вот что я тебе скажу, друг, – неожиданно проникновенным и вместе с тем зловещим голосом произнес Афанасий, – это и есть тот самый дом, который я поджег в двенадцатом году! Проклятое для меня место… Тяжело мне было приближаться к нему, ноги не шли, будто за ними волочились кандалы…
Дом, во двор которого он мысленно возвращался на протяжении многих лет, предстал перед Огарковым почти таким же, каким был до пожара. И тогда тоже стояли сумерки… Он так взволновался, что едва не потерял из виду женщину, следившую за виконтессой. А та пристроилась на противоположной стороне улицы, под аркой чьих-то ворот, и, делая вид, что оправляет сбившуюся шаль, наблюдала за тем, как из кареты выходили пассажиры. Афанасий же прижался к чугунной ограде дома Белозерских, за которой росла плакучая ива. Она свешивала ветви прямо на улицу, и это, как ему казалось, было идеальным укрытием. Однако он не заметил, что напротив расположена аптека с газовым фонарем на крыльце. И как раз в то время, когда город окончательно погрузился в темноту, на крыльце появился аптекарский подмастерье и разжег фонарь.
Как только извозчик тронулся с места, дама вышла из-под арки и неспешным шагом направилась в обратный путь, словно совершенно удовлетворившись результатом слежки. Вдруг она остановилась и оглянулась. Как предположил Огарков, женщина высматривала, в котором окне зажгутся свечи, чтобы знать наверняка, в какую комнату поместили больную.
Внезапно совсем рядом, в саду за ивой, раздался голос Елены, который Афанасий узнал бы из тысячи голосов. Она говорила с каким-то мужчиной, которого, судя по ее тону, была не очень рада встретить. Но страха ее голос не выражал, мужчина отвечал почтительно и явно не был ее врагом. Бывший колодник успокоился.
Он вновь взглянул в сторону женщины, следившей за особняком. И тут его ждало такое потрясение, что он, забыв об осторожности, едва не вскрикнул. Газовый фонарь светил ярко, и Афанасий имел возможность рассмотреть на щеке преследовательницы хорошо ему знакомую «слезу», характерную родинку под глазом. Не дослушав разговора, происходившего по ту сторону ограды, он решительно двинулся вслед за женщиной, едва та, отвернувшись, пустилась в путь.
Помня давнюю ссору с сестрой, Афанасий не торопился ее окликать. Его мучил вопрос, что Зинаида делает в Москве, и еще в большей степени изумляло, зачем она следит за Еленой.
О сестре все эти годы Огарков ни разу не вспоминал. Вычеркнул ее из своей жизни после того, как она предала веру их родителей, подалась в лютеране. Если бы не Елена, взял бы еще один грех на душу, убил бы Зинку семнадцать лет назад, зарубил бы топором за подлую измену! Он шел вслед за сестрой и злился, как встарь, припоминая, какую рану она ему нанесла. А та бойко щелкала каблуками по камням мостовой и время от времени передергивала плечами, поправляя шаль. Каждое ее движение злило брата еще больше. Его душила ярость. Афанасий был готов сорвать у нее с затылка кокетливую шляпку и растоптать ее.
Вскоре Зинаида свернула в темный переулок, где светился единственный фонарь возле питейного заведения. Именно в дверях трактира и исчезла его сестра. Огарков, с минуту потоптавшись на крыльце, все-таки решился войти внутрь. Карманы его были совершенно пусты, ведь Афанасий ничего не заработал, покинув товарища.
Открыв дверь, он сразу был оглушен и словно отравлен кислыми сивушными парами, которыми была наполнена обширная комната с низкими потолками. С ядовитым духом перегара мешался запах жирных мясных щей. У Огаркова закружилась голова – он некстати вспомнил, что весь день ничего не ел. При входе, в углу, притулился на лавке седой старик в новой вышитой косоворотке, уже изрядно пьяный. Он играл на балалайке, держа ее с равнодушием и отвращением, словно обнимая немилую жену. Вместо мелодии выходило у него нечто настолько плаксивое, бестолковое и безнадежное, что хотелось немедленно умереть или напиться вдрызг. Впрочем, вероятно, такой аккомпанемент вполне отвечал целям трактирщика и вкусам посетителей. Сидевший за соседним столом коренастый мужчина в мещанском платье то и дело хватал приятеля за грудки, что-то шепотом ему вещая. Он был совершенно пьян, по его щекам катились мутные слезы, рядом возвышалась уже на две трети опорожненная бутыль с кизляркой. Приятель тупо кивал, вряд ли понимая, где находится. К паре присматривался жуликоватого вида парень, старавшийся держаться в самой тени, в углу. Афанасий видал его не раз на Хитровке – это был мелкий воришка.
Были здесь и женщины известного пошиба, нимфы, призванные услаждать досуги местных сатиров. Одна – сурового вида мрачная баба в синем сарафане, в красном платке и с подбитым глазом, нарумяненная неумело и наивно, как Миликтриса Кирбитьевна на лубочной картинке. Другая, одетая тоже в ситец, но по-городскому фасону, совсем молоденькая, востроносая девчонка с наглым взглядом и пунцовой лентой вокруг головы. Обе сидели по углам и ждали, когда их угостят. Но мужики и мастеровые, составлявшие основную массу посетителей, не спешили расходовать свои скудные средства на любовь, предпочитая сперва утолить голод и жажду иного рода.
Огарков не сразу отыскал взглядом сестру. Зинаида сидела спиной к нему, в темном углу, за самым дальним столом, и, к его удивлению, была не одна. Мужчина, с которым она разговаривала, выглядел франтовато, резко выделяясь среди простолюдинов, заполнивших кабак. Серый цилиндр и серые перчатки, подобранные в тон остальному костюму, говорили о его стремлении сойти за барина, но беспокойные порывистые движения, втянутая в плечи голова и бегающий жестокий взгляд говорили об ином. По мере того как Афанасий приближался к столику, за которым сидели Зинаида и франт, он все больше убеждался в том, что когда-то уже видел этого человека. У него появилось намерение сесть за соседний столик боком или спиной к этой парочке и подслушать их разговор, но этому не суждено было сбыться. Стоило человеку в сером бросить мимолетный, но цепкий взгляд на бывшего колодника, как последовала незамедлительная реакция. Франт вскочил с лавки, дрожа всем телом, и, подавшись вперед, хрипло воскликнул:
– Раскольник!
– Кремень? – в свою очередь оторопел Огарков, впервые нарушив многолетний обет молчания. – С того света, что ли, явился?!