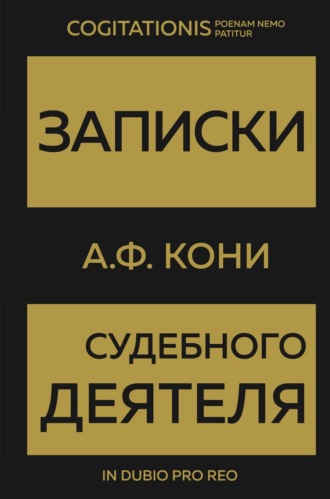
Анатолий Федорович Кони
Записки судебного деятеля
Из казанских воспоминаний
Если бы знаменитый криминолог Ломброзо увидал некоего Нечаева, которого мне пришлось обвинять в Казани весной 1871 года, то он, конечно, нашел бы, что это яркий представитель изобретенного итальянским ученым преступного типа и прирожденный преступник – маттоид. Маленького роста, растрепанный, с низким лбом и злыми глазами, курносый, он всей своей повадкой и наружностью подходил к излюбленному болонским профессором искусственному типу. Он представлял вместе с тем и своего рода психологическую загадку по той смеси жестокости, нахальства и чувствительности, которые отражались в его действиях.
В 1871 году благовещение приходилось в пятницу на Страстной неделе. «Свято соблюдая обычай русской старины», старик портной Чернов решил, вместо птицы, выпустить на свободу человека. Он отправился в тюремный замок и там узнал, что есть арестант – отставной военный писарь Нечаев, обвиняемый в краже и сидящий лишь за неимением поручителя на сумму 50 рублей. Чернов обратился к начальству тюрьмы, прося отдать ему на поруки Нечаева, и, по соблюдении формальностей, получил его на свои руки и немедленно привел к себе в мастерскую, подарив ему при этом две ситцевых рубашки и рубль серебром. С ними Нечаев немедленно исчез и вернулся лишь перед самой пасхальной заутреней и, конечно, без рубашек и без рубля. Утром в день Светлого воскресения он стал требовать еще денег, но Чернов отказал. В четыре часа дня последний оказался убитым, с кровоподтеками на виске и на лбу, причем шея его была почти совершенно перерублена топором, валявшимся тут же, а голова висела лишь на широком лоскуте кожи. Карманы платья Чернова были выворочены, и со стены исчезло его новое, только что сшитое пальто. Исчез и Нечаев. Он был обнаружен ночью в доме терпимости, причем на спине его, на рубашке, найдено было большое кровавое пятно; такое же пятно было и на подкладке пальто со стороны спинки. Нечаев ни в чем не сознавался и даже отрицал свое знакомство с Черновым и пребывание в его доме. Он держал себя чрезвычайно нагло. Когда его вели в сопровождении массы любопытствующего народа на квартиру Чернова для присутствия при осмотре места преступления, он обратился к проезжавшему мимо губернатору со словами: «Ваше превосходительство, а что бы вам меня за деньги показывать? Ведь большая бы выручка была!»
Пред осмотром и вскрытием трупа убитого в анатомическом театре университета Нечаев прислал мне заявление о непременном желании своем присутствовать при этой процедуре. Во время последней он, совершенно неожиданно, держал себя весьма прилично и внимательно вглядывался и вслушивался во все, что делал и говорил профессор судебной медицины И. М. Гвоздев. Когда последний кончил, Нечаев спросил меня: «Как объясняет он кровоподтек на лбу?» Я попросил Гвоздева повторить обвиняемому это место его visum repertum [3] и заключения. «Этот кровоподтек должен быть признан посмертным, – сказал Гвоздев, – он, вероятно, получен уже умершим Черновым во время падения с нар, возле которых найден покойный, от удара обо что-нибудь тупое». Нечаев злобно усмехнулся и вдруг, обращаясь ко мне и к следователю, громко сказал: «Гм! После смерти?! Все врет дурак! Это я его обухом топора живого, а не мертвого; он еще после этого закричал». И затем Нечаев тут же, не без развязности, рассказал, как, затаив злобу на Чернова за отказ в деньгах, поджидал его возвращения с визитов и как Чернов вернулся под хмельком, но грустный, и жаловался ему, что у него сосет под сердцем «точно смертный час приходит». «Тут я, – продолжал свой рассказ Нечаев, – увидел, что действительно его час пришел. Ударом кулака в висок сбросил я его с нар, на краю которых он сидел, схватил топор и ударил его обухом по лбу. Он вскрикнул: «Что ты, разбойник, делаешь?!» – а потом забормотал и, наконец, замолчал. Я стал шарить у него в карманах, но, увидя, что он еще жив, ударил его изо всей силы топором по шее. Кровь брызнула, как кислые щи, и попала на пальто, которое Чернов повесил на стену, повернув подкладкой кверху, потому что оно было новое. Я крови не заметил, когда надевал пальто; оттого у меня она и на спине оказалась. А вы, может, и поверили, что это из носу?» – насмешливо заключил он, обращаясь к следователю и напоминая свое первое объяснение этого пятна.
В тюрьме он себя держал спокойно и просил «почитать книжек». Но, когда я однажды взошел к нему в камеру, он заявил мне какую-то совершенно нелепую жалобу на смотрителя и, не получив по ней удовлетворения, сказал мне: «Значит, теперь мне надо на вас жаловаться?» – «Да, на меня». – «А кому?» – «Прокурору судебной палаты, а еще лучше министру юстиции: он здесь будет через неделю». – «Гм, мое дело, значит, при нем пойдет?» – «Да, при нем». – «Эх-ма! В кармане-то у меня дыра, а то бы князя Урусова надо выписать. Дело мое ведь очень интересное. А кто меня будет обвинять?» – «Я». – «Вы сами?» – «Да, сам». – «То-то, я думаю, постараетесь! при министре-то?» – вызывающим тоном сказал он. «За вкус не ручаюсь, а горячо будет», – ответил я известной поговоркой. – «А вы бы меня, господин прокурор, пожалели: не весело ведь на каторгу идти». – «Об этом надо было думать прежде, чем убивать для грабежа». – «А зачем он мне денег не дал? Ведь и я хочу погулять на праздниках. Я так скажу: меня не только пожалеть надо, а даже быть мне благодарным. Не будь нашего брата, вам бы и делать было нечего, жалованье не за что получать». – «Да, по человечеству мне и впрямь жаль», – сказал я. «А коли жаль, так у меня к вам и просьба: тут как меня выводили гулять или за нуждой – что ли, забралась ко мне в камеру кошка, да и окотилась; так я просил двух котяток мне отдать: с ними занятнее, чем с книжкой. Однако не дали. Прикажите дать, явите божескую милость!» Я сказал смотрителю, что прошу исполнить просьбу Нечаева.
В заседании суда, в начале июня, действительно присутствовал граф Пален, приехавший в Казань на ревизию. Нечаев держал себя очень развязно, говорил колкости свидетелям и заявил, что убийство совершилось «фоментально» (т. е. моментально). Присяжные не дали ему снисхождения, и он был приговорен к 10 годам каторги. В тот же день казанское дворянство и городское общество давали обед графу Палену в зале дворянского собрания. В середине обеда мне сказали, что приехал смотритель тюремного замка по экстренному делу. Я вышел к нему, и он объяснил, что Нечаев, привезенный из суда, начал буйствовать, вырвал у конвойного ружье и согнул штык (он обладал громадной физической силой), а затем выломал у себя в камере из печки кирпич и грозил размозжить голову всякому, кто к нему войдет. Его удалось обезоружить, но смотритель находил необходимым заковать его в ручные и ножные кандалы, не желая, однако, это сделать без моего ведома, так как на мне лежали и обязанности старого губернского прокурора. Я отнесся отрицательно к этой крайней мере и посоветовал ему подействовать на Нечаева каким-нибудь иным образом. «Что – котята еще у него?» – «У него – он возится с ними целый день и из последних грошей поит их молоком». – «Так возьмите у него в наказание котят». Смотритель, старый служака прежних времен, посмотрел на меня с недоумением, потом презрительно пожал плечами и иронически сказал: «Слушаю-с!»
Прошло три дня. Смотритель явился ко мне вновь. «Господин прокурор, позвольте отдать котят Нечаеву». – «А что?» – «Да никак невозможно». – «Что же? буйствует?» – «Какое, помилуйте! Ничего не ест, лежит у дверей своей камеры на полу, стонет и плачет горючими слезами: «Отдайте котят, – говорит, – ради Христа отдайте! Делайте со мной, что хотите: ни в чем перечить не буду, только котяточек моих мне!» Даже жалко его стало. Так можно отдать? Он уж будет себя вести примерно. Так и говорит: «Отдайте: бога за вас молить буду!»
И котята были отданы убийце Чернова.
Из харьковских воспоминаний
Я всегда находил, что в нашей русской жизни воспитание детей построено на самых извращенных приемах, если только вообще можно говорить о существовании воспитания в истинном смысле слова между русскими людьми. Даже вполне развитые родители по большей части относятся к детям со слепотою животной любви и совершенно не думают о том, что впечатления, даваемые восприимчивой душе ребенка, должны быть строго соразмерены с его возрастом и с той работой мысли и чувства, которую они собой вызывают. В особенности это можно сказать про чтение, невнимание к выбору которого у некоторых воспитателей граничит с преступностью, тяжкие последствия которой лишь иногда парализуются чистотою детской души и свойственным возрасту непониманием тех или других отношений. Сюда же относятся неосторожность в разговорах при детях и бессмысленное, подчас доходящее до бессознательной жестокости, стремление доставлять детям развлечение, в котором детская душа менее всего нуждается, находя себе пищу в простых явлениях окружающей природы и жизни. Я знаю немало образованных и добрых людей между моими друзьями и хорошими знакомыми. Но, когда порой я вижу, как они воспитывают своих детей, спеша насытить их души преждевременными впечатлениями и болезненно развить их фантазию и тщеславие, как возят их по циркам, загородным садам и театрам, как заставляют их разыгрывать взрослых на так называемых «детских балах», как, в ущерб своему естественному авторитету, стараются поставить их в положение равноправных и ничем не стесняемых товарищей, я готов сурово порицать этих добрых и милых людей за то, что к сомнительному благодеянию – дать жизнь – они присоединяют еще и жестокость своей воспитательной отравы. Но об этом можно бы писать целые часы, писать слезами и кровью, широко почерпнутыми из повседневных явлений современной жизни с ее психопатами, неврастениками и самоубийцами.
И мне невольно вспоминается первое из впечатлений ужаса, которое я испытал вследствие стремления доставлять детям развлечения. Когда мне было лет восемь, меня взяли в Пассаж, в Петербурге, где был кабинет восковых фигур. Я вижу этот кабинет и все фигуры до сих пор с такой отчетливостью, как будто я стою перед ними. В конце кабинета в последней комнате помещалась темная раздвижная занавесь и пред нею маленькая рампа, за которой зажгли ряд свечей; затем хозяин кабинета на ломаном русском языке объяснил усевшимся перед рампой посетителям, что будет показана сцена из времен испанской инквизиции, представляющая пытку дочери знатного испанца, которую слуга-негр обвинял в ереси. Присутствовавшая при пытке сестра несчастной сошла, при виде ее страданий, с ума, а доносчик, запертый в соседней комнате, сознав гнусность своего поступка и слыша стоны своей жертвы, старается разбить себе голову об стену. После этого объяснения следовало меня, восприимчивого и нервного ребенка, взять за руку и немедленно увести. Но это противоречило бы теории доставления развлечений…
Занавесь раздвинулась, и предстала картина, которая никогда не изгладится из моей памяти. По стенам, в глубине сцены, стоял ряд монахов с надетыми на голову черными остроконечными капюшонами, в которых были сделаны лишь два маленьких зловещих отверстия для глаз;, перед ними, за покрытым черным сукном столом, стоял, протянув повелительно руку, главный инквизитор в красной мантии, а на первом плане один палач, в узком черном же капюшоне, но не в рясе, крепко держал стоявшую на коленях молодую и красивую девушку с растрепанными волосами, разинутым, конечно, для крика, ртом и полными страдания и ужаса глазами, а другой, схватив ее за руку, окровавленными клещами вырывал у нее ногти. В стороне, лицом к зрителю, стояла ее сестра в белом платье, устремив вдаль безумный взор и зажимая себе уши руками, а рядом, в небольшой комнатке, молодой негр или, вернее, мулат, в светлой одежде, с ужасным выражением лица, ударялся головой об стену, и кровь текла по его лицу, оставляя следы на стене и на платье. Мне трудно передать, что я перечувствовал, глядя на эту картину. Доставление мне этого жестокого развлечения сопровождалось, в том же воспитательном ослеплении, предложением книги Поля Ферраля «Тайны испанской инквизиции», а результат всего этого выразился в том, что я почти месяц не мог спать, переживая каждую ночь виденную мною картину или постоянно просыпаясь с криком ужаса, если удавалось забыться на некоторое время. С тех пор у меня явилось инстинктивное и непреодолимое отвращение к восковым фигурам, и попытки переломить себя и зайти в Panopticum [4] в Берлине стоили мне насилия над собой и отравленного на целый день настроения. Говоря откровенно, если бы даже и теперь, когда мне идет восьмой десяток, мне предложили остаться на ночь в комнате, где лежит несколько трупов, хотя бы и в том виде, в каком их приходится видеть в анатомическом театре, или же в комнате, где находится несколько восковых фигур, одетых и даже красивых, я без колебаний предпочел бы первое, до того мне тягостно и тошнотворно зрелище этих остановившихся глаз и этих безжизненных рук и ног, перед которыми ноги трупа все-таки кажутся более живыми. Замечу при этом, что флорентийские раскрашенные статуи не производят па меня никакого неприятного впечатления. Очевидно, в основе всего лежит восковой кабинет в Пассаже.
Я думаю вообще, что восковые кабинеты и во многих отношениях современные нам кинематографы должны быть подчинены строгому и действительному надзору для ограждения их посетителей от вредных и противных стыдливости впечатлений, приучающих зрителей к спокойному созерцанию жестокости или к удовлетворению болезненной и кровожадной любознательности. Для меня несомненно дурное влияние на многих из посетителей музея Grevin [5] в Париже, подносящего своим посетителям последние новинки из мира отчаяния, крови и преступлений» или так называемых «Folterkammer» [6] немецких восковых кабинетов. При этом надо заметить, что картины страданий и вызываемый ими ужас для многих имеют в себе ядовитую привлекательность. Такое же влияние имеют иногда и те произведения живописи, в которых этическое и эстетическое чутье не подсказало художнику, что есть в изображении действительности или возможности черта, переходить за которую не следует, ибо за нею изображение уже становится проступком, и притом проступком безжалостным и дурным. Несколько лет назад на художественных выставках в Берлине и Мюнхене были две картины. Одна представляла пытку водою, причем безумные от страдания, выпученные глаза и отвратительно вздутый живот женщины, в которую вливают, зажимая ей нос, чтобы заставить глотать, второе ведро воды, были изображены с ужасающей реальностью. На другой, носившей название «Искушение святого Антония», место традиционных бесов и обнаженных женщин занимали мертвецы всех степеней разложения, пожиравшие друг друга и пившие из спиленной верхней части своего черепа, обращенной в чашу, лежавший в ней свой собственный мозг. Перед обеими картинами всегда стояла толпа, некоторые возвращались к ним по нескольку раз, и в то время, когда из их уст раздавались невольные возгласы отвращения и ужаса, глаза их жадно впивались во все отталкивающие подробности…
Конечно, я говорю о пребывании в комнате с трупами лишь при неизбежности выбора между ними и восковыми куклами, ибо и с трупами я испытал два очень тяжелых впечатления. Оба они имели место в Харькове.
На Рыбной улице был убит в своей лавке купец Белоусов жестоким ударом большого полена в лицо, которое представляло из себя не поддающийся описанию страшный вид; особенно тяжкое впечатление производил один уцелевший глаз, выпученный как бы с выражением застывшего ужаса, тогда как другой был выбит ударом и размозженный висел на каких-то синевато-красных нитях. Старик лежал поперек порога из задней комнаты в лавку, так что для перехода из одной в другую приходилось шагать через его труп, одетый в длинный белый халат. Руки старика со скорченными пальцами были подняты вверх и так и застыли, а ноги широко раскинуты. Вся фигура представляла тягостное зрелище и казалась в полусвете задней комнаты колоссальной. Было очевидно, что убийца вошел не в дверь лавки, которая была заперта тяжелым засовом с замком, ключ от которого оказался в кармане халата убитого. Он не мог войти и через чердак и проломанное в потолке отверстие, так как следы крови и рук на приставленной к этому отверстию лестнице указывали, что она была принесена после убийства и что ее протащили через труп. Оставалось прийти к выводу, что убийца проник с заднего хода, где дверь запиралась довольно слабо входившим в петлю длинным крючком. Для подтверждения этого вывода нужно было убедиться, что убийца, дергая дверь, мог заставить крючок прыгать и, наконец, совсем выскочить из петли. Затем, когда Белоусов – человек одинокий и опасливый, собиравшийся уже ложиться спать в лавке, где за прилавком стояла его кровать, быть может, привлеченный шумом, пошел в заднюю комнату и показался на ее пороге, притаившийся у стены убийца ударил его со страшной силой длинным поленом по голове и убил. Полено это, все в крови и с прилипшими к нему седыми волосами с головы и бороды старика, валялось около трупа. Для того, чтобы надеть крючок и видеть его положение при дерганье двери, нужно было кому-либо войти в заднюю комнату и в ней запереться. Судебный следователь решил остаться снаружи и в присутствии понятых дергать дверь. На мое предложение помощнику полицейского пристава войти и запереться он отвечал, что ему дурно, и он просит освободить его от этого опыта. Тогда я решил запереться сам, оставшись один в полумраке задней комнаты, в одном шаге от мертвого старика.
Тяжелый воздух стоял в комнате, и гнетущая тишина господствовала вокруг, покуда следователь Гераклитов готовился начать дергать дверь. Чем более глаза привыкали к полусвету маленькой комнаты, скорее похожей на каморку, тем явственнее рисовалась фигура убитого. Накладывая крючок, я должен был обходить полено, чтобы оставить его для описания при осмотре в прежнем положении и при этом полами своего пальто касаться одной из окоченелых рук старика. Началось дерганье двери, крючок прыгал, но не соскакивал с петли. Иногда дерганье прерывалось, смутно было слышно, что следователь что-то объяснял понятым, затем наступало несколько мгновений тишины, которые начинали казаться целой вечностью. Наконец, дерганье прекратилось вовсе, голоса замолкли, и я остался один с убитым стариком. Так прошло минуты две. Затем дерганье возобновилось с новой энергией, и я должен был собрать всю силу самообладания, чтобы не помочь крючку выскочить из петли. Но вот он стал прыгать сильнее, и наконец дверь распахнулась и в мое заточение хлынул поток света. Я был белее старикова халата, и сердце мое усиленно и нервно билось где-то у самого горла, стесняя дыхание и затрудняя речь. Сознание, что я – юный товарищ прокурора – подал пример смелости полицейскому чиновнику, не очень меня радовало, ибо в глубине души я понимал, что, продлись еще одну минуту медлительный опыт над дверью и раздумье пред нею Гераклитова, я бы лежал без чувств в объятиях старика.
Другой случай мог бы послужить материалом для одного из рассказов Эдгара По, до такой степени в нем собрался воедино ряд впечатлений, из которых каждого было бы достаточно, чтобы не быть никогда забытым. В Харькове существовал, а, быть может, существует и ныне, обычай заменять новогодние визиты раутом в дворянском собрании, где все лица общества обменивались приветствиями, а молодежь танцевала. Первого января 1869 г. я отправился на этот раут, но, выходя из дому, получил письмо, в котором меня, как товарища прокурора, извещали, что в тюремном замке товарищами по заключению был убит арестант, а начальство скрыло это происшествие. Убитого отпели, как умершего естественной смертью, несмотря на то, что многие видели боевые знаки на лице у лежавшего в гробу, и, чтобы окончательно опустить концы в воду, труп отправили в анатомический театр, откуда его возьмут, конечно, в препаровочную, и всякий след преступления потеряется.
Письмо было анонимное, но на порядках харьковского тюремного замка со времени знаменитого на юге России дела о подделке серий лежала тень подозрений. Поэтому, встретив на рауте прокурора судебной палаты Писарева, я показал ему это письмо, и мы решили, что я произведу личное дознание, немедленно отправясь в анатомический театр для разыскания трупа. На рауте был и профессор патологической анатомии, милый, глубокоученый и оригинальный друг мой Душан Федорович Лямбль. Я просил его отправиться со мною, на что он выразил согласие с большой готовностью, и мы, как были на рауте, во фраках и белых галстуках, поехали в университет, где не без труда разыскали полупьяного сторожа, и этот своеобразный Виргилий повел нас по кругам анатомического ада. Миновав несколько комнат, мы вступили в амфитеатр, перед пустыми скамьями которого стоял стол с мраморной доской, и на нем сидела обнаженная молодая женщина, прислоненная к особой подпорке, поддерживавшей ее голову. Молодое и красивое тело ее было немного подернуто зеленью разложения, окоченелые руки и ноги были слегка согнуты в коленях и локтях, а лицо… лица было не видно, ибо головная кожа была подрезана от одного уха до другого через шею ниже затылка и вывернутая наизнанку, зияя мясом и мелкими сосудами, была надвинута на лоб и на лицо. Густые белокурые волосы спускались из-под нее и совершенно закрывали лицо это и верхнюю часть груди. В таком виде она была приготовлена накануне для какого-то анатомо-патологического исследования, которое должно было произойти 2 января. Трудно передать то ощущение сострадания и вместе отвращения, которое вызывала своим видом эта ужасная фигура… Миновав ее, мы вошли в длинный коридор с небольшими и тусклыми окнами, бывшими, если не изменяет память, на уровне выше роста человека. Я несколько раз оглядывался назад, и каждый раз мой взор встречал все ту же фигуру, сидевшую на столе прямо против дверей. Издали казалось, что это сидит голый бородатый человек, нахлобучивший на себя красную шапку. В конце коридора несколько ступенек вели в кладовую, освещенную одним окном, где хранились трупы, присланные для вскрытия и для студенческих работ из полиции и больниц. Это были разные бездомные, смертные останки которых не приняли любящие руки; были опившиеся или замерзшие, подобранные на улицах и в уезде. За праздники их накопилось много, и они лежали на низких и широких нарах друг на друге, голые, позеленевшие, покрытые трупными пятнами, с застывшей гримасой на лице или со скорбной складкой синих губ, по большей части с открытыми глазами, бессмысленно глядящими мертвым взором. На большом пальце правой ноги каждого из них, на веревочке был привязан номер по реестру, в котором значилось – кто и откуда прислан. Лямбль послал за реестром, и мы стали курить и ходить по коридору, где было весьма холодно.
В обоих концах коридора нас постоянно встречало одно и то же зрелище: то сидящая женщина, то груда мертвых тел. Наконец, сторож принес реестр и стал отыскивать ноги трупа, присланного из тюрьмы. Так как некоторые из этих трупов лежали головами в противоположных направлениях, то их пришлось переворачивать, чтобы отыскивать номера ног, обращенных к стене, и сторож, должно быть по дороге еще выпивший, ворча себе под нос, для сокращения своей работы, влез на эти трупы и стал их разбирать, как дрова, вытаскивая одного из-под другого. Искомый нами номер оказался на ноге мертвеца, лежавшего в самом низу, головой к стене. Сторож стал тянугь его за ноги, причем лежавшие сверху стали поворачиваться. Вот показались тело и руки, задевавшие других мертвецов и в них упиравшиеся, – вот грудь и плечи, но где же голова?! Оказалось, что голова отрезана умелою рукою и исчезла вместе со своими «боевыми знаками». Сторож припомнил, что голова отрезана и унесена прозектором для каких-то специальных надобностей. Посланный тотчас же к прозектору, жившему тут же на дворе, сторож, продолжая ворчать, пошел ленивою походкой, предварительно прислонив безголовый труп к его товарищам по несчастью. Мы снова стали ходить по коридору и курить. Между тем короткий зимний день начал сменяться надвигающимися сумерками. Сторож не возвращался. Наконец Лямбль потерял терпение и, сказав мне: «Я пойду за головою сам», быстро удалился, так что я не успел, возбудить вопроса о том, не пойти ли с ним и мне. Притом сторож мог вернуться без него, пройдя с какого-нибудь другого хода, и, не найдя никого, исчезнуть уже на целый день.
Подавляя в себе ощущение невольной робости, я стал ходить по коридору, а сумерки все сгущались. Вскоре уже трудно стало различать все подробности в подвале и большой зале, и, по мере приближения к ним, из густой полутьмы выступали только белое тело сидящей женщины и зеленоватое грузное тело человека без головы. Из залы слышалось таинственное и зловещее молчание. Из подвала проникал насыщенный тяжким запахом разложения воздух, приносивший иногда похожие на вздохи звуки, издаваемые газами во внутренностях потревоженных трупов. Наконец, стемнело совершенно. Я перестал ходить, смущаемый гулом моих шагов, и остановился посредине коридора, сторожимый с двух сторон мертвыми товарищами моего тяжелого одиночества. Вспоминая, что менее чем за два часа перед этим я был в светлой и праздничной зале, видел веселую и нарядную толпу, говорил с изящными, полными жизни и веселья женщинами, я начинал думать, что видел все это во сне или, наоборот, что то, что меня окружает, какой-то тяжкий кошмар, который сейчас рассеется, и грудь, в которую начинал заползать неотвратимый ужас, вздохнет облегченно. Не могу дать себе отчета, сколько времени провел я в этом состоянии. Но вот в зале показался слабый свет, и затем в конце коридора послышались шаги, и появился Лямбль с мешком в руках, а за ним сторож с фонарем. В мешке была голова с ярко-красными пятнами на лице. Лямбль приладил ее к шее стоявшего трупа и, убедившись, что она на своем месте, снова снял ее и, рассматривая внимательно, сказал мне: «В письме написан вздор: это не кровоподтеки от побоев, это воспалительное состояние кожи; это, вероятно и даже несомненно, следы местного воспаления. Я пришлю вам завтра письменный об этом отзыв». И, взяв с собою голову, он вместе со мною удалился.
Мне пришлось и в другой раз посетить харьковский анатомический театр, отыскивая Лямбля для получения его совета относительно экспертизы по вопросу о психозе беременной женщины, обвинявшейся в Валках в покушении на жизнь мужа. Я нашел его перед памятным мне мраморным столом, окруженным группою студентов. Он делал вскрытие трупа, в подтверждение постановленного диагноза, и производил его с изумительным искусством, точностью и знанием, которые так и развертывались под каждым движением его скальпеля. Весь отдавшись разрешению патологического вопроса, оживленный и уверенный в себе, жадно посасывая маленький окурок сигары, каким-то чудом не обжигавший ему нос, он казался настоящим жрецом науки на исключительном ей служении. Когда вскрытие было окончено и заключено его блестящим выводом, он, дав мне требуемое указание, сказал: «Пойдемте в мой патолого-анатомический кабинет: я вам покажу, что осталось от госпожи NN…». Эта NN была жизнерадостная, изящная красавица с белокурыми пепельного цвета волосами и большими «бархатными» черными глазами. Она составляла предмет явного восхищения и тайного злословия местного общества, в котором играла весьма заметную роль. Ей льстили в глаза, а за глаза – некоторые не без зависти – обвиняли ее в близких отношениях со знатным и чрезвычайно богатым местным обывателем. Если это было верно, то надо сказать, что между свойствами, которыми он взял ее сердце, – любовь с его стороны, нежная и искренняя, играла во всяком случае главную роль. Любовь эта пережила ее кончину и вызвала со стороны осиротевшего покупку дома, где она жила, и устройство часовни в спальне, где она испустила в страшных страданиях последнее дыхание. Несчастная женщина, которую я видел дней за десять до свидания с Лямблем во всем блеске ее красоты, молодости и внешнего успеха на одном бале, вероятно, хотела избавиться от беременности. Это, под видом какой-то операции, было совершено поспешно и неумело. Предполагался прорыв стенки… Молва обвиняла в этом одного из видных врачей, и прокурор судебной палаты Писарев возбудил по этому поводу предварительное следствие. Чем оно окончилось, я не знаю, так как вскоре был переведен из Харькова.
Придя в патолого-анатомический кабинет, Лямбль показал мне плоский открытый сосуд, наполненный спиртом, и в нем пострадавшие внутренние органы несчастной женщины. В главном из них был заметный прорыв, происшедший от ошибочного направления какого-нибудь инструмента или, вернее, согнутого пальца. Сердце мое сжалось, и тщета всего житейского предстала предо мною со всей ясностью. С каким восторженным обожанием относились к той, кому принадлежали эти бескровные, похожие на серые тряпки, внутренности! И вот, освобожденная от них, лежит в сырой земле и уже сделалась добычей червей очаровательная красавица с большими радостными и наивными глазами, которым так улыбалась принимаемая не всерьез жизнь. Над ее еще живым в памяти образом извиваются злоречие и злорадство, а над содержимым сосуда равнодушно скользит безучастный взгляд судебного врача и следователя…
Упомянув о Лямбле и вызвав перед собой его симпатичный и оригинальный образ, я не могу удержаться, чтобы не сказать о нем несколько слов. Ученик знаменитого Гиртля, подвижный, энергический, с прекрасными, полными жизни, умными карими глазами на сухощавом лице, под нависшим хохлом седеющих волос, Лямбль производил впечатление выдающегося человека и был таковым в действительности. Хозяин в своей части, он не был узким специалистом, а отзывался на всевозможные духовные запросы человеческой природы. Любитель и знаток европейской литературы, тонкий ценитель искусства, он мог с полным правом сказать о себе «nihil humanum me alienum puto» [7]. Он, например, в подробности изучал и знал Данга, а своими объяснениями и замечаниями внушил мне любовь и интерес к художественной деятельности Гогарта. Как практический врач он подсмеивался над узкой специализацией, столь развившейся в последнее время, и в понимании картины и значения болезни давал ход собственной творческой мысли, а не следовал рабски за тем, что ему скажет последнее слово заграничных книжек и в особенности разные химические и другие исследования. Он лечил не теоретически понимаемую болезнь, а каждого больного, индивидуализируя свои приемы и указания и отводя широкое место психологическому наблюдению. Его называли часто оригиналом и чудаком, но чудак этот мог записать себе в актив не мало блестящих исцелений там, где был серьезный и определенный недуг, и там, где нужно было лишь поднять душевный строй человека, не привязывая к нему непременно определенного медицинского ярлыка с неизбежной, предустановленной процедурой лечения и режима.







