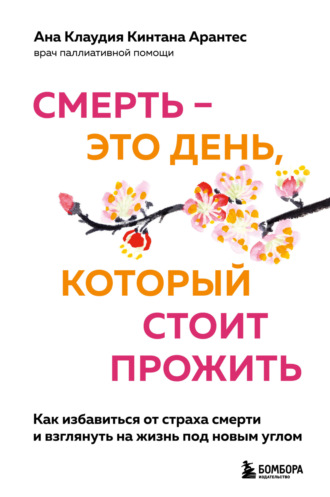
Ана Клаудия Кинтана Арантес
Смерть – это день, который стоит прожить. Как избавиться от страха смерти и взглянуть на жизнь под новым углом
После того как самый сложный этап закончился, я устроилась работать в универмаг. Однако с каждым днем я все больше беспокоилась о своем призвании. Зов медицины был силен, но я не знала, как на него ответить. Время шло, и я отдалялась от всего мира ужасов брошенных жизней, ожидавших смерти в больнице. Однако тот зов эхом отозвался в моем сердце, и я больше не могла заставлять его молчать. И я решила, что должна стоять на своем, даже если у меня и не было таланта. Кто знает, может, я привыкла бы ко всему этому, как и остальные?
Я решила вернуться в университет и поработать волонтером в роддоме на окраине. Я проводила ночи, массируя спины рожениц, воющих от боли и не имеющих выбора: в то время правительство еще не санкционировало анестезию при естественных родах, поэтому всем приходилось страдать. Я даже подумала, что наконец-то нашла способ стать врачом, избавившись от стольких ненужных терзаний. Я знала, что боль этих женщин пройдет и радость встречи привнесет смысл в эти трудные моменты. Как и Ницше, я также считала, что если у человека есть «зачем» жить, то он вытерпит и любое «как».
Год спустя я закончила четвертый курс без особых мучений с живыми пациентами. Но меня очаровало то, о чем я никогда раньше не думала: курс судебной медицины. В то время мы присутствовали при вскрытиях Службы подтверждения смерти в ЮМЛ (юридическом медицинском институте). Приходили на анатомо-клинические встречи, на которых описывалась клиническая картина пациента и несколько врачей выдвигали диагностические гипотезы. В конце приходил патологоанатом и предоставлял результаты вскрытия; они, в свою очередь, проясняли причину смерти. На пятом курсе я начала выходить на смены, и моя первая стажировка была в акушерстве. Поскольку я уже принимала роды ранее, мне все очень понравилось. Я была уверена, что это действительно та медицина, которую я так любила.
Во время учебы в университете, когда я смотрела на то, как кто-то умирает в страданиях (а в больнице такое случается почти всегда), я спрашивала, что можно сделать, и все отвечали: «Ничего». Это «ничего» застряло у меня в горле. Оно будто сидело у меня на груди и физически причиняло боль, понимаете? Я плакала почти всегда: от гнева, отчаяния, сострадания. Что значит «ничего»? Я не могла смириться с тем, что врачам наплевать на такую некомпетентность – некомпетентность не в том, что не удалось избежать смерти пациента (никто не живет вечно), а в том, что они бросили больного и его семью. Почему вводили ему седативные препараты, оставляя без связи с внешним миром? Огромная пропасть лежала между тем, что мне нужно было знать, и тем, что я изучала в университете.
Вскоре меня начали дразнить: врач, который не может выдержать вид больного пациента. Так бывает? Нет, не бывает. Я скрывалась от мира на факультете фотографии. За камерой никто не видит слез. Никто не замечает сердце фотографа, пока он не покажет свои снимки. Со своего места я могла видеть то, что упускали другие. Но было слишком рано говорить о том, что, по моему мнению, было правдой, – я промолчала и продолжила.
В своей книге «Все мы смертны. Что для нас дорого в самом конце и чем тут может помочь медицина» Атул Гаванде, американский хирург и писатель, говорит: «В медицинском институте я узнал многое, однако тому, что все мы смертны, нас не учили»[1].
В университете не говорят о смерти, о том, что такое умирать. О том, как позаботиться о человеке на завершающей стадии тяжелого и неизлечимого заболевания, речи не идет.
Преподаватели избегали моих вопросов, а некоторые даже говорили, что я должна заниматься какой-то специальностью, которая требует минимального контакта с пациентами или вообще никакого. Мне говорили, что я слишком чувствительна и не смогу ни о ком заботиться, не страдая так же сильно, как сами пациенты, или даже больше. Обучение, без сомнения, было самым тяжелым временем в моей жизни. В конце этого периода я выбрала гериатрию. Я думала, что, если буду заботиться о пожилых людях, возможно, столкнусь со смертью более физиологичным и естественным образом. Но понимание пришло только тогда, когда медсестра подарила мне книгу Элизабет Кюблер-Росс, швейцарского психиатра из США, «О смерти и умирании». В ней автор описывает переживания своих пациентов, которым угрожает конец жизни, и свое желание приблизиться к ним, чтобы помочь в их последние минуты жизни. Я проглотила книгу за одну ночь, а на следующий день та удушающая боль в груди утихла, понимаете? Мне удалось улыбнуться. Я пообещала себе: «Я узнаю, что можно сделать».
Затем начались смены в отделении неотложной помощи, но там у меня было больше свободы думать и действовать. На этом этапе было легче, ведь я уже понимала процесс болезни и чувствовала себя более спокойно, к тому же осознав, что пациенты быстрее поправляются, если уделять им внимание. Мне очень нравилось разговаривать с ними и узнавать об их жизнях вне болезней.
Мне нравится перебирать эти истории в поисках сокровищ.
И я их всегда нахожу.
Заботиться о тех, кто заботится
Еще задолго до того, как я искренне приняла свою судьбу, на протяжении всей медицинской карьеры я жила со смелой целью: ухаживать за умирающими. Мне нравится заботиться о тех, кто прекрасно понимает, что умирает. Страдания, которые нависают над этим этапом жизни человека, требуют особого внимания. Я посвятила бóльшую часть своей жизни изучению паллиативной помощи. Комплексный, многогранный уход, который медицина может предложить пациенту, страдающему серьезным неизлечимым заболеванием, грозящим смертью, стал центральным аспектом моей профессиональной деятельности. Я скажу даже больше: моя жизнь наполнилась смыслом, когда я обнаружила, что забота о себе не менее важна, чем забота о других.
Но, как и все медицинские работники, особенно врачи, долгое время я не обращала внимания на это ценное знание.
Кажется, стало социальной нормой говорить «у меня не было времени пообедать», «у меня не было времени поспать», «у меня не было времени уделить внимание своему телу, смеяться, плакать» – не было времени жить.
Посвящение себя работе как будто связано с общественным признанием, искаженным способом чувствовать себя важным и ценным. Все вокруг обязаны понимать, что мир может повернуться, только если вы толкаете. Три пейджера, два мобильных телефона, дежурства почти каждые выходные. У меня были финансовые трудности: нужно было помогать родителям и сестрам содержать дом. Так я и проработала пять лет не покладая рук ассистентом бригады онкологов.
В последний год, когда я уже получила признание за изучение паллиативной помощи, за мой дар сочувствия и обязательность, меня назначили ухаживать за многими пациентами на дому. Это были люди на очень поздней стадии рака, без эффективного лечения или контроля над болезнью им оказывали помощь дома.
Опыт бригад домашнего ухода варьировался от плохого до ужасного: сотрудники понятия не имели, что такое паллиативная помощь. Износ был сумасшедшим. Пока в моей жизни не появился 23-летний Марсело с диагнозом «рак кишечника». Агрессивная болезнь не поддавалась лечению. При выписке из больницы мать юноши попросила, чтобы именно я продолжила ухаживать за ее сыном. Она знала о его скорой смерти и хотела, чтобы это случилось дома. Он тоже этого хотел. Я была польщена и согласилась.
Первый визит: боль. Взятая под контроль за несколько дней, она сменилась сонливостью. Заболевание перешло на печень; пациент бредил и кричал от страха. В пятницу вечером во время проливного дождя в Сан-Паулу я прихожу и обнаруживаю, что живот Марсело деформирован опухолевыми массами. Его вырвало один, два, три раза. Кровь и кал смешиваются в комнате. Пахнет смертью. Он кричит. Увидев меня, он протягивает ко мне руки и улыбается. Продолжает кричать, и в его глазах отражается страх – самый большой страх, который я когда-либо видела. Медсестра в ужасе. В гостиной мама и бабушка поддерживают себя мантрами и благовониями. Запах невыносимый. Кровь, кал, ладан, страх. Смерть.
Я открываю сумку неотложной помощи, которую заказала специально для его последних минут. Все, что нахожу внутри, – это ампулы с препаратами, используемыми при реанимации. Мне нужен морфин. Для него, для меня – для всего мира. Что-то, что может облегчить такую боль и такое бессилие. Я заказываю лекарства в больнице, но нужно дождаться их прибытия. Мать не хочет везти его туда. «Вы обещали ему, что позаботитесь обо всем дома». Он умоляет: «Помогите мне!» Я жду морфина почти четыре часа. Медсестра дрожит и не может приготовить лекарство. Я готовлю, ввожу, жду, утешаю. Он засыпает. В доме воцаряется покой, мать меня обнимает и благодарит. В тот день я больше не знаю, кто я. Сажусь в машину, льет проливной дождь. Слезы. У меня текут слезы, но дождь заглушает мой плач. Он заглушает все. Звонит телефон: это медсестра. «Доктор Ана? Кажется, Марсело умер». Мне нужно вернуться за свидетельством о смерти. Я переживу это? Смерть пришла во время покоя. Я вижу ночь. Я смотрю на небо. Дождь прекратился.
Под утро приснился тревожный сон. Кричу в кошмаре, снова переживая эту сцену и слыша: «Помогите мне!» Просыпаюсь. Иду в ванную, чтобы умыться, и, когда смотрю в зеркало, я вижу Марсело. Боже мой, у меня галлюцинации… Или мне это снится? Звоню терапевту, прошу помощи, плачу, умоляю: «Я больше не могу! Не хочу больше видеть пациентов! Я больше не хочу быть врачом!»
Возлюби ближнего твоего как самого себя.
Иисус Христос

Я отсутствовала 42 дня. Без телефона, без пейджера. Я вернулась и подала заявление об увольнении. Постепенно жизнь наладилась. Много кофе, много чая, много разговоров, особенно с Крис, моим психотерапевтом в то время. Я нашла объяснения тому, что со мной произошло: усталость от сострадания. Я провела сама себе ретроспективную диагностику в связи со смертью Марсело: вторичный посттравматический стресс. Резкий, интенсивный.
Усталость от сострадания, или вторичный посттравматический стресс, чаще всего возникает у медицинских работников или волонтеров, основным инструментом помощи которых является сочувствие.
Люди испытывают столько страданий, что в итоге впитывают чужую боль. И вот я пережила самую большую боль в своей карьере, результат моего таланта сочувствовать. Ирония? И что теперь? Многие вопросы остались без ответа. И самым болезненным был: как мне справиться с чужой болью, не принимая ее на себя?
Во время терапии я обнаружила больше вопросов, чем ответов, – больше пропастей, чем мостов. Снова и снова высота окружающих скал и глубина обрывов заставляли меня чувствовать, что горизонта, чистого неба, вообще нет. Куда бы я ни обратилась, везде был вызов, проблема. И сейчас? Зачем все это?


