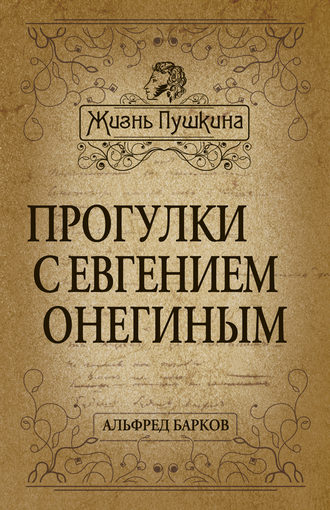
Альфред Барков
Прогулки с Евгением Онегиным
Раскрыл ли он перед Баратынским свой конечный замысел? Побудительный мотив как для Баратынского, так и для самого Пушкина должен был быть действительно значительным. Хотя переписка между двумя поэтами за 1828 год не сохранилась, история литературы все же располагает достаточным по объему материалом, чтобы сделать однозначный вывод. Хроника этой акции выглядит следующим образом.
27 августа 1827 года издатель произведений Пушкина П. А. Плетнев пишет Пушкину: «Какое сделать употребление из Нулина, когда ты пришлешь новые два стиха, в замену непропущенных? […] Присланную тобой Элегию я думаю представить для цензирования вместе с 4-ю главою Онегина, а то не стоит беспокоить ею одною. Когда ее пропустят, тогда и отдам Дельвигу».
Следовательно: а) на конец августа 1827 года еще не было решено, в какой форме представить читающей публике «Графа Нулина»; б) к этому времени «Бал» был уже прочитан Пушкиным, так как набросок его критической статьи об этой поэме датируется примерно этим временем, причем из содержания этого наброска, где речь идет о «Бале» как якобы уже опубликованном в «Северных Цветах» А. А. Дельвига (издатель Баратынского), явно видно, что статья готовилась Пушкиным загодя, поскольку в этом альманахе «Бал» опубликован так и не был; в) рукопись «Бала» направлялась из Москвы в Петербург не Баратынским, а Пушкиным, причем не Дельвигу, а Плетневу для облегчения прохождения цензуры; г) Пушкин был настолько заинтересован в издании «Бала» и в ускорении цензурных процедур, что вовлек в это и Плетнева (примечательно, что на этой стадии «Бал» еще называли элегией, а не повестью).
Необходимость в публикации пушкинской статьи о «Бале» отпала, поскольку факт издания поэмы под одной обложкой с «Графом Нулиным» надежно решал все этические проблемы. Более того, эта публикация была использована Пушкиным для решения еще одной задачи: «Бал» и «Граф Нулин» были названы «повестями в стихах», что еще больше сближало их контексты с «романом в стихах», на который оба они фактически работали. И еще одно преимущество такого совместного издания: через «Бал» и через секрет образа Натальи Павловны читателю предлагалась разгадка секрета «Евгения Онегина» – наличие в нем рассказчика такого же типа, как и в «Графе Нулине» – пересмешника, «ябедника»; во всяком случае, не идентичного образу самого автора.
Вот что писал о своей поэме сам Баратынский (в письме к Дельвигу, примерно за месяц до публикации): «Ты мне хорошо растолковал комический эффект моей поэмы и убедил меня. Мне бы очень было досадно, ежели б в «Бале» видели одну шутку, но таково должно быть непременно первое впечатление. Сочинения такого рода имеют свойства каламбуров: разница только в том, что в них играют чувствами, а не словами. Кто отгадал настоящее намерение автора, тому и книгу в руки».
Из этого следует, что:
– Дельвиг тоже знал об истинном предназначении «Бала»; значит, он также был посвящен в суть мистификации;
– Баратынский стремился, чтобы первым впечатлением была шутка;
– «кто отгадал настоящее намерение автора» – значит, главное в «повести» – ее скрытый смысл («каламбур»);
– каламбур не слов, а чувств, то есть, этических контекстов, мог быть реализован только в сочетании с содержанием восьмой главы «Евгения Онегина», к созданию которой Пушкин, кстати, к тому времени даже еще не приступил; значит, он имел совершенно четкий план – включая и отказ Татьяны, и противопоставление ее образа созданным Баратынским образам княгини Нины и цыганки Сары, и сближение образа Татьяны с образом ханжи Натальи Павловны (еще в 1824 году им был написан эпилог к «Онегину», из которого уже четко было видно, чем закончатся отношения Онегина с Татьяной).
3 декабря 1828 года Дельвиг пишет Пушкину в Москву: «Бал отпечатан, в пятницу будет продаваться […] Я желаю тебя поскорее увидеть и вместе с Баратынским». В этом письме – ни слова о «Графе Нулине» – как будто бы он не был издан вместе с «Балом». Выходит, Дельвиг знал, что Пушкина интересует не столько собственный «Нулин», сколько «Бал» Баратынского.
В конце февраля – начале марта 1829 года, когда Пушкин был еще в Москве, П. А. Вяземский, В. Ф. Вяземская и Е. А. Карамзина направили ему коллективное письмо, в котором Вяземский сделал шутливую приписку: «Мое почтение княгине Нине. Да смотри, непременно, а то ты из ревности и не передашь». Здесь – также ни слова о «Графе Нулине», а только о «ревности» Пушкина к Баратынскому за такое внимание к Нине со стороны друга.
27 марта 1829 года, П. А. Плетнев – Пушкину: «Элегическая эпиграмма Баратынского очень мила. Поцелуй его от меня за нее» – опять-таки, ни слова о «Нулине», а «Бал» вообще назван одним из участников акции не элегией, не поэмой, и даже не повестью, а именно эпиграммой.
Они все знали, по крайней мере в ближайшем окружении Пушкина; одни (Баратынский, Плетнев и Дельвиг) активно помогали, другие играли роль «болельщиков», но в любом случае о направленности акции им было известно. Но этим дело не кончилось: ведь между публикацией «Бала» и восьмой главы «Онегина» прошло целых четыре года, и читающая публика могла не заметить броских параллелей. И вот чтобы освежить в памяти читателей содержание «Бала» и «Нулина», в 1832 году в продажу поступает «нераспроданная часть тиража» 1828 года; только вот эта «нераспроданная часть» почему-то была допечатана в том же 1832 году (данные Шестого тома Большого Академического собрания сочинений)…
К сожалению, используемые здесь данные, взятые из академических изданий, не совсем верно отражают последовательность событий. Когда эта глава была уже завершена, я был глубоко потрясен, узнав о том, что «Граф Нулин» был издан отдельной книжкой обычным для того времени тиражом 1200 экземпляров еще в 1827 году, о чем в академических изданиях даже не упоминается. Описание этого издания, включая и факсимиле обложки, приведено в книге Н. Смирнова-Сокольского{10}. Однако оно в продажу не поступило.
В 1828 году, также отдельной книжкой тиражом 1200 экземпляров был издан «Бал». 15 ноября 1828 года половина тиража все еще не поступившего в продажу «Графа Нулина» была сброшюрована в конволют с половиной тиража «Бала» и в таком виде издание под одной обложкой поступило в продажу. На обложке значилось только: «Две повести в стихах», без упоминания их названий и фамилий авторов. Конволют открывался шмуцтитулом с обозначением только данных, относящихся к «Балу» и его автору, за этим следовала сама книга Баратынского. После нее был вставлен еще один шмуцтитул с данными «Графа Нулина» и его автора, за которым была приброшюрована книга Пушкина издания 1827 года с сохранением нумерации страниц этого издания.
Только после того, как основная часть тиража конволюта (600 экз.) была распродана, в продажу поступили оставшиеся части тиража «Графа Нулина» и «Бала». Не соглашаясь с составителями Шестого тома, указавшими, что в 1832 году продавалась «допечатанная» часть нераспроданного тиража конволюта, Смирнов-Сокольский отрицает факт допечатки и настаивает на том, что 1832 году продавались по отдельности оставшиеся не сброшюрованными вместе экземпляры двух книг.
Смирнов-Сокольский полагает, что Пушкин не пустил в продажу «Графа Нулина» сразу же после его издания в 1827 году из-за стремления материально поддержать «Северные Цветы», опубликовавшие поэму в конце того же 1827 года. Возможно, отчасти это и так. Но, если возвратиться к содержанию приведенной выше переписки, можно видеть, что Пушкин, как и его единомышленники, ждал выхода в свет именно конволюта с «Балом», придерживая реализацию отпечатанного еще в 1827 году «Графа Нулина», и вот поэтому в письмах его друзей делается упор на факт издания «Бала».
Полагаю, что приведенные Смирновым-Сокольским подробности подтверждают сделанный вывод о том особом значении, которое Пушкин придавал содержанию поэмы Баратынского и факту совместного издания.
Не в пародийном аспекте творчество Баратынского появляется в романе Пушкина, пожалуй, единственный раз – но зато в последних строках романа:
Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал…
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Комментаторы романа с какой-то легкостью ухватились за подброшенную версию о персидском поэте XIII века, о котором сам Пушкин писал в 1825 году Вяземскому: «Уродливость Саади».
Исследовав все издания произведений Саади, с которыми мог ознакомиться Пушкин, В. Набоков, скрупулезности которого в подобных вопросах следует отдать должное, текста, «цитированного» Пушкиным в качестве эпиграфа, которым были предварены все три отдельные издания «Бахчисарайского фонтана» (1824, 1827 и 1830 гг.), не обнаружил. Примечательно, что в последнем прижизненном издании поэмы (в сборнике «Поэмы и повести Александра Пушкина, 1835 г., часть I»), «Бахчисарайский фонтан» был опубликован уже без эпиграфа. Нет, не мог Пушкин завершить свой роман ссылкой на поэта, которого не ценил. Скорее всего, он имел в виду строфу из «Стансов» Баратынского («Судьбой наложенные цепи» – 1828 год), где речь идет о декабристах:
Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг;
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других.
А в романе Пушкина отсылка к ней выглядит как выражение признательности Баратынскому и за талант, и за граничащую с жертвой самоотверженную помощь.
Решение о снятии эпиграфа к «Бахчисарайскому фонтану» становится понятным, если принять во внимание содержание последней строфы увидевшей свет в 1832 году восьмой главы «Евгения Онегина», где имя Саади фактически маскирует отсылку к «Стансам» Баратынского. К сожалению, вопреки воле Пушкина, после выхода в свет в 1936 году Четвертого тома Большого Академического собрания сочинений эпиграф к «Бахчисарайскому фонтану» был восстановлен, и в таком виде поэма публикуется во всех последующих изданиях без упоминания о том, что эпиграф был снят самим Пушкиным. Научный редактор Четвертого тома С. М. Бонди так объяснил это решение: «Эпиграф к «Бахчисарайскому фонтану», по случайным причинам отпавший при четвертой прижизненной перепечатке поэмы (а может быть, и по цензурным причинам, поскольку в это время (в 1830-х годах) слова «Иных уж нет, а иные странствуют далече» воспринимались как намек на казненных декабристов) […] признано необходимым оставить в основном тексте IV тома академического издания»{11}. Такое объяснение принятого решения вряд ли можно считать удовлетворительным, поскольку перед 1835 годом восьмая глава с еще более прозрачным намеком на казненных декабристов уже прошла цензуру и была дважды опубликована, и в таком же виде была представлена публике в последнем прижизненном издании «Евгения Онегина» (1837 г.)
У Пушкина не было оснований снимать эпиграф к «Бахчисарайскому фонтану» по цензурным соображениям хотя бы уже потому, что у него в данном случае было совершенно чистое алиби: первое издание «Бахчисарайского фонтана» с этим эпиграфом увидело свет 10 марта 1824 года, то есть более чем за полтора года до восстания на Сенатской площади. Наоборот, если принимать во внимание именно цензурные соображения, то следует признать, что после выхода в свет восьмой главы, тем более вскоре после публикации вызвавшей донос правительству статьи Полевого{12}, публикация в 1835 году поэмы с эпиграфом только закрепляла бы «алиби» Пушкина. Очевидно, что снятие эпиграфа к «Бахчисарайскому фонтану» носило далеко не случайный характер и было непосредственно связано с творческой историей создания «Евгения Онегина», поскольку эта акция фактически дезавуировала «задним числом» отсылку к Саади в восьмой главе, а включение в опубликованные в 1833 году «Примечания» к роману трех прямых отсылок к творчеству Баратынского давало все основания увязать это место восьмой главы с его «Стансами» – по крайней мере тому узкому кругу читателей, которые ознакомились с их содержанием в списках.
По мнению Набокова, контекст эпиграфа к «Бахчисарайскому фонтану» и соответствующих стихов восьмой главы восходит к творчеству русского поэта Владимира Филимонова («Друзей иных уж нет, иные в отдаленье» – 1814 г.) и Байрона («But some are dead and some are gone… And some are in a far countrie» – «Siege of Corinth», стихи 14 и 30). Эта же тема затронута Пушкиным в черновике стихотворения «На холмах Грузии», предположительно посвященного Н. Н. Гончаровой: «Иные далеко, иных уж в мире нет».
Вместе с тем, упоминая о «Стансах» Баратынского, Набоков пишет: «Пушкин мог знать о них, а мог и не знать». Осмелюсь утверждать, что вряд ли мог не знать, поскольку «Стансы» были написаны в 1828 году, когда как раз велась кампания по изданию «Бала» совместно с «Графом Нулиным». Напомню, что рукопись «Бала» была направлена для печати Пушкиным из Москвы, и он мог получить ее только от самого Баратынского. Более того, уже в начале 1829 года Пушкин снова был в Москве и, судя по содержанию переписки, его встречи с Баратынским носили регулярный характер. Если учесть, что в то время Пушкин причислял Баратынского к ближайшему кругу своих единомышленников, то невозможно представить, чтобы тот не ознакомил его с содержанием только что написанных «Стансов», заведомо подпадавших под цензурный запрет.
Глава IV
«Евгений Онегин»: Задачи исследования
Но возникает закономерный вопрос: не выглядит ли связанная с «Балом» жертва Баратынского неоправданной? Ведь один из лучших поэтов России добровольно и активно содействовал тому, что в фабулу «Евгения Онегина» был привнесен дополнительный пародийный аспект относительно его творчества, и никакие акции Пушкина по спасению лица Баратынского этот аспект романа не устраняют, а даже усиливают. Почему ближайший друг Баратынского Дельвиг не только не возмутился, но и способствовал всему, что с этим связано? Почему к акции был подключен такой «тяжелый калибр», как Плетнев? Почему Вяземский, вместо того, чтобы как-то посочувствовать Баратынскому, счел возможным игриво пошутить по этому поводу в своем письме? Видимо, дело не только в наполнении образа Татьяны определенным этическим содержанием таким вот опосредованным путем, тем более что Пушкин демонстративно отказался использовать для этого возможности седьмой главы. Раскрыла эта акция образ Татьяны для широкой публики или нет – вопрос непростой; по крайней мере, такая акция – не тот художественный прием, который могут позволить себе в узко утилитарных целях художники такого класса, как Пушкин и Баратынский. А вот фигуру Баратынского как объект пародии эта акция прочно закрепила, и, представляется, именно это и являлось одной из главных ее целей.
Но этим дело еще не закончилось. Ведь то, что мы привыкли считать романом, превратилось теперь в направленную против Баратынского и всего передового крыла русского романтизма эпиграмму. А это чувствительно бьет по самому Пушкину, который выглядит теперь как лицемер, говорящий в глаза Баратынскому и его окружению приятные вещи, а на самом деле сочиняющий вот такие четырехстопные пасквили… Тогда что же сам Пушкин, на протяжении десяти лет методично добивавшийся более чем сомнительной славы пасквилянта?
Да Пушкин – как Пушкин: на протяжении тех же десяти лет он не менее методично придавал своему роману черты бездарного произведения, что в общем-то видно невооруженным глазом, хотя об этом и не принято говорить… И, что самое интересное, на этом поприще он особенно поусердствовал в восьмой, завершающей главе. Вот как выглядит начало ее первой строфы:
В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал…
Вряд ли можно отрицать, что сочетание «читал» – «не читал» бросается в глаза как не соответствующее нашему представлению об отточенности стиля Пушкина… Да и само это кричащее своей хвастливостью «автобиографическое» отступление не может не вызвать тяжких раздумий относительно того, не пытается ли «автор» «вытянуть» за счет авторитета Державина явно не удавшееся в художественном отношении повествование, названное им «романом в стихах». И как бы ни пытались пушкинисты явно или неосознанно «оправдать» Пушкина, какие бы ни использовали при этом апологетические эвфемизмы, все их выводы можно заменить одним: «низкая художественность».
Действительно, из-под пера гения не может выйти стилистическая небрежность типа «читал – не читал» (а таких мест в романе более чем достаточно); гений сразу пишет вот так:
В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал украдкой Апулея,
А над Вергилием зевал…
Это – черновик той самой пушкинской строфы; вариант, который первым приходит гению в голову и ложится на бумагу. А вот как эта же строфа выглядела уже в беловой рукописи:
В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Елисея,
А Цицерона проклинал…
Тоже неплохо, но самый первый вариант был все же лучше. Однако и этот вариант почему-то не устроил Пушкина, и в окончательном виде закрепилось то совершенно бездарное «читал – не читал», которое мы имеем в каноническом тексте. Как можно видеть, хорошее гению дается легко и сразу, а плохого ему приходится добиваться в процессе кропотливой работы. Причем загодя (еще во вторую главу), он включил, характеризуя Дмитрия Ларина, каламбур, построенный как раз на слове «читать»:
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой… (2-XXIX).
Это место В. Набоков назвал «аллитерацией с каламбуром»: «Как только ее замечаешь, сразу портится впечатление от обоих стихов» (т. 2, с. 288). Тем более удивительно, что он никак не откомментировал куда более броский (некаламбурный) повтор слов в первой строфе восьмой главы, хотя и привел все черновые варианты этой строфы.
Возникает естественный вопрос: зачем это Пушкину? На этой стадии становится очевидным, что ответ должен носить далеко не частный характер; фактически, это будет ответ на вопрос, какую цель преследовал Пушкин, преднамеренно насыщая свое творение бросающимися в глаза стилистическими огрехами и противоречиями. То есть, в чем заключается замысел поэта, его интенция; каким художественным путем эта цель достигается и насколько ее масштаб оправдывает те очевидные издержки, на которые сознательно шел Пушкин.
Если верить в поэтический гений Пушкина, все эти «недостатки» можно объяснить единственным образом: структура романа (его содержание) интерпретируется нами неправильно, «не с той точки», как писал о романе сам поэт А. Бестужеву{13}. Приведенный пример динамики работы автора (сочетание «читал – не читал») свидетельствует, что в романе имеется скрытый подтекст, который и составляет основное содержание произведения. Следовательно, мы имеем дело с типичной мениппеей, и целью исследования должно быть выявление содержания иносказания, принимая во внимание следующее.
Во-первых, несмотря на явные смысловые разрывы и демонстративные противоречия, на чисто интуитивном уровне роман воспринимается как нечто цельное и завершенное, свидетельством чего является его высокая востребованность. С точки зрения эстетики, единственным критерием оценки художественности произведения является впечатление, полученное именно таким интуитивным восприятием.
Во-вторых, как показано выше, принятое представление об архитектонике романа ошибочно: в романе не восемь, а все-таки девять глав, хотя публикация Пушкиным «Путешествий» вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Сомнения в правильности определения архитектоники возникают и в отношении «Посвящения» («Не мысля гордый свет забавить, Вниманье дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить Залог достойнее тебя»): история литературы утверждает, что оно посвящено Пушкиным своему другу и издателю П. А. Плетневу. Но здесь сразу бросается в глаза никем из исследователей не отмеченная двусмысленность определения «достойнее» (за весь период творчества Пушкина это – единственный случай, когда он вообще использовал сравнительную степень этого прилагательного); как справедливо отметил В. Г. Редько, посвящения заведомо адресуются «достойным», и даже косвенный намек на возможное наличие чего-то или кого-то «достойнее» адресата придает всему посвящению контекст издевки.
К тому же, на интуитивном уровне возникает ощущение, что такой текст может адресоваться, скорее, женщине. И, если воспринимать Посвящение как адресованное Плетневу, то есть как не имеющее никакого отношения к структуре романа, то следует признать, что в таком качестве оно должно было быть помещено в 1837 году не после эпиграфа, которым должен открываться основной корпус романа, а, конечно же, до него. Публикация этого Посвящения как якобы адресованного Плетневу при публикации 4 и 5 глав, его изъятие при полной публикации текста романа в 1833 году и демонстративный перенос его вместе с фамилией Плетнева в «Примечания» с подчеркиванием того факта, что оно именно изъято, включение в очередное издание как предваряющее уже весь роман, но без фамилии Плетнева – все это свидетельствует о том, что в данном случае имеет место мистификация, согласованная с самим Плетневым, который не оскорбился такой демонстративной акцией, что видно из содержания его дальнейшей переписки с Пушкиным.
В-третьих, в своем комментарии к «Евгению Онегину» Д. Д. Благой{14} обратил внимание на то обстоятельство, что в четвертой строфе восьмой главы романа упоминается героиня одноименной поэмы Бюргера «Ленора». К сожалению, он только констатировал этот факт, никак его не откомментировав. Но ведь Ленора стала жертвой мертвеца, который при жизни был ее возлюбленным; вурдалака, увозящего ее ночью при луне в преисподнюю. Вот как в романе:
Как часто ласковая муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!
То есть, смысл данного места заключается в том, что рассказчик является вампиром по отношению к музе и выступает как ее убийца. Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что инфернальный характер данной сцены подчеркнут путем выделения запятыми слов «при луне». Разумеется, к самому Пушкину это никак не может быть применимо.
В. Набоков (т. 3, с. 152) отмечает очень оригинальное строение строфы произведения Готтфрида Августа Бюргера – восемь стихов с рифмовкой bAbAccEE – отметив, что Пушкин в точности повторил эту строфику в «Женихе» (1825), а Жуковский – в своем новом переводе («Ленора», 1831 г.); что в художественном отношении «Жених» намного превосходит поэму Бюргера, что до этого Жуковский дважды перелагал «Ленору» (1808 г. – «Людмила», 1812 – «Светлана»). Кроме этого, им же правильно отмечено, что отсылки к переложению Жуковским поэмы Бюргера имеют место и в сне Татьяны (т. 2, с. 331). Ни на минуту не сомневаясь в том, что повествование в «Евгении Онегине» ведется от лица самого Пушкина, Набоков так завершает свой комментарий этого места: «Меня всегда интересовало, почему Пушкин предпочел сравнить свою Музу с этой испуганной девушкой», так и не поставив другой, не менее важный и логически вытекающий из его постулата вопрос: как Пушкин мог сравнить себя с вампиром, и какое это имеет значение для постижения смысла всего романа…
В-четвертых, Набоков (т. 3, с. 129) совершенно справедливо отметил, что самый первый стих, с которого начинается восьмая глава («В те дни, когда в садах Лицея»), начинается с тех же слов, с которых начинается и написанное Пушкиным еще в 1823 году стихотворение «Демон»: «В те дни, когда мне были новы…» С этим же стихотворением он увязывает (т. 3, с. 162–163) и стих «Иль даже Демоном моим» (8-XII). Но вряд ли можно отрицать, что повторенная отсылка в восьмой главе к «Демону» создает еще один мощный этический контекст, вносящий существенные коррективы в восприятие содержания не только завершающей главы, но и всего романа в целом. К сожалению, как и в остальных случаях, Набоков ограничился лишь констатацией фактов, даже не пытаясь оценить те контексты, которые вносятся этими отсылками к «Демону» в содержание романа. Собственно, эти контексты как таковые им даже не сформулированы. Но если вчитаться в содержание этого небольшого стихотворения, созданного как раз тогда, когда Пушкин приступил к созданию «Евгения Онегина», то обращает на себя внимание то обстоятельство, что Демон обретает в нем явственные черты какого-то конкретного человека, которого Пушкин повстречал в прошлом (то есть, до 1823 года); циника, скептически относящегося к романтизму и убивающего творческое начало в лирическом авторе «Демона» («Его язвительные речи Вливали в душу хладный яд»). Вряд ли можно согласиться с Набоковым в том, что речь в данном стихотворении идет об Александре Раевском, с которым Пушкин встречался не только «в прошлом», а уже в Одессе 1823 года; по всей видимости, он имел в виду кого-то другого, из своего петербургского прошлого.
Если сопоставить контексты, вносимые в восьмую главу отождествлением рассказчика с вампиром, увлекающим Музу в преисподнюю, и стихом «Иль даже Демоном моим» с отсылкой к содержанию стихотворения Пушкина, то нетрудно видеть, что они во многом смыкаются: в первом случае Музу убивает рассказчик восьмой главы, ведущий повествование от имени Пушкина, во втором – некий Демон убивает Музу лирического героя стихотворения Пушкина, причем в этом лирическом герое – жертве Демона – явственно просматриваются черты самого Пушкина. А это – уже основа для постановки вопроса и формулирования задачи исследования: не является ли рассказчик «Онегина» тем самым злым Демоном Пушкина?..
Значимость контекстов, вносимых в восьмую главу отсылками к «Леноре» Бюргера и «Демону» самого Пушкина, позволяет утверждать, что любые попытки постигнуть смысл романа без учета их воздействия заведомо обречены на неудачу. Эти отсылки сами по себе, полностью разрушая установившееся восприятие восьмой главы и всего романа в целом, дают исследователю все основания сконцентрировать внимание на вносимых ими контекстах и сформулировать конкретный вопрос, без чего одно только упоминание о них теряет всякий смысл. Своевременно, честно и без оглядки на внешние обстоятельства поставленный вопрос – добрая половина его разрешения. Исследователь, занимающийся структурным анализом, должен отбросить все внешнее и сконцентрировать свое внимание только на тексте. И только тогда, когда будет выявлена истинная авторская интенция и тот структурный элемент, в котором она заключена, то есть, когда у исследователя образуется стойкий иммунитет против образования ложной эстетической формы, навязываемой ошибочными историколитературными трактовками, можно (и даже нужно) обращаться к обобщенным данным, накопленным поколениями других исследователей. Иначе получается парадокс, как это имеет место в пушкинистике: боясь «оскорбить» память Пушкина, панически убегают от углубленного анализа содержания его творчества.
Нетрудно видеть, что наличие отмеченных «противоречий» допускает только две интерпретации: либо Пушкин действительно не имел четкой «формы плана», о чем объявил еще во вступлении, предваряющем издание первой главы, либо в структуре романа все-таки имеется невыявленный элемент композиции, какое-то особое художественное средство, при помощи которого все противоречащие друг другу моменты формируют новый ракурс видения содержания романа.
Таким образом, постановка задачи исследования связана с выбором альтернативы: либо поверить Пушкину – автору Вступления, отказавшись от веры в Пушкина-художника, либо наоборот. Поскольку первый вариант исключает перспективность дальнейшей работы, остается второй. Но при этом придется признать, что Пушкин мистифицирует читателя, то есть, «Евгений Онегин» – мениппея, из чего следуют очень далеко идущие выводы. И решения. Причем одно из них появляется сразу: если мы действительно имеем дело с мениппеей, то целью акции, связанной с публикацией «Бала», было стремление просигнализировать читателю «Евгения Онегина», что повествование ведется не самим Пушкиным, что содержащаяся в романе сатира исходит от некоего постороннего лица, «истинного» «автора» романа – по типу рассказчика в «Графе Нулине»; что попытки этого лица выдать сатиру в отношении Баратынского и романтизма как якобы исходящую от Пушкина фактически вносят новый сатирический элемент, направленный уже не против Пушкина, а против самого анонимного «автора». То есть, в придачу к сымитированной «бездарности», этой акцией Пушкин придал своему роману дополнительный, теперь уже «антипушкинский» контекст, исходящий от рассказчика его романа.
К сожалению, этот вывод – едва ли не единственный, который возможен на данном этапе. Дело в том, что теория мениппеи до настоящего времени не разработана. Пришлось такую теорию разработать и предварительно апробировать на других мениппеях, среди которых и роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Внутренняя структура мениппей оказалась настолько неожиданной, что, прежде чем продемонстрировать теорию в действии, применительно к «Евгению Онегину», кратко изложим ее суть, иначе будет не совсем понятным, откуда что следует и почему.


