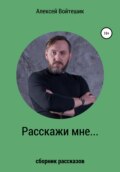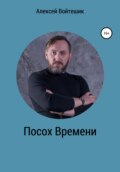Алексей Викентьевич Войтешик
Хватка
Глава 4
…Сейчас мне кажется, что все это было во сне, простой ночной кошмар, и ничего больше. На войне «окопным» часто снится что-то подобное. Поймите, Винклер, – ежесекундно добавляя эмоций своему рассказу, все больше распалялся унтерштурмфюрер, – мы были готовы к тому, что, войдя на окраину села, встретимся с неприятелем, но, когда до границы хлебного поля оставалось что-то около трехсот метров, мне вдруг померещилось, что колосья вдруг зашевелились! Тут же из-за горящих танков на нас бросились русские, и про эту метаморфозу с колосьями пришлось забыть. Стрелять по врагу не имело смысла, они были слишком близко. Началась рукопашная схватка.
Это какое-то безумство! У них даже не было касок, только зеленые фуражки, подвязанные ленточками под горло. Выглядело это так, будто коммунисты боялись потерять эти головные уборы или те каким-то волшебным образом были способны их защитить. Ну не из гордости же за принадлежность к своей армии они оставляли себе эти фуражки? Бежать в них в атаку не целесообразно, неудобно, глупо!
А вот дальше… Дальше, гауптман, перед нами открыл свои врата сущий ад. Именно в эти врата кто-то и выпустил страшных псов-убийц. Их было не меньше сотни, уверяю вас.
Началось все с того, что, сцепившись в драке с одним из советских солдат, я краем глаза увидел, как кто-то из моих подчиненных, вопя, как убегающий от паровоза безумец, промчался мимо меня. За ним другой, третий! Не понимая, что происходит, я улучил момент и потянулся к кобуре, чтобы пристрелить вцепившегося в меня «Ивана», но мою руку внезапно обожгла боль, и я попросту не смог ей двигать. Русский как-то вдруг перестал со мной бороться и оттолкнул в сторону.
Радуясь нежданной свободе, я откатился на два шага и вдруг понял, что со мной борется еще и собака. Прикрывшись от нее теперь уже левой рукой, я вскочил и успел выхватить пистолет. Теперь понятно, почему глупый «Иван» решил меня отпустить. Он был серьезно ранен и попросту оставил меня псу! Пришлось разделить обойму моего «Luger» на их двоих. Пока собака кромсала мою левую руку, я уложил «покером» русского, а потом выстрелил остаток патронов в животное.
То, что началось дальше, я буду помнить всю свою жизнь и, поверьте на слово, даже после победы над советскими коммунистами, когда обустроюсь где-нибудь на положенном мне наделе земли, я никогда, слышите, никогда не заведу себе собаку.
Мои руки были залиты кровью, к счастью, во время схватки боль приходит гораздо позже, чем обычно. С трудом перезарядившись, я ринулся вперед и вдруг почувствовал, что мир передо мной перевернулся. Сам того не понимая, я, закрывая шею, подтянул подбородок к плечу. Наверное, вы уже догадались, меня атаковал другой пес! Этот, как я понял, прыгнул откуда-то с брони стоящего рядом танка. Мне снова пришлось отдать на откуп зверя левую руку и, после этого, выстрелить несколько раз ему в брюхо.
Понимая, что стоя на земле, я сильно рискую, уж простите, гауптман, было не до геройства, я не придумал ничего лучше, как, преодолевая догнавшую меня боль, взобраться на стоявший рядом, почерневший от копоти Pz III.
Всюду шла драка, причем русских было совсем немного. Их работу делали собаки, и как делали! Я своим глазами видел, как они подползали под танки, ныряли в воронки, ждали, когда приблизится кто-то из наших и, выждав нужный момент, бросались и рвали наших ребят на лоскутки.
Кто-то, как и я забирался на броню, но его доставали и там. Один несчастный парень зашился под пушечный ствол Pz и отбивался только ногами, пока пес не исхитрился схватить его за промежность. Они свалились на землю, и дальше мне уже не было видно, чем все это закончилось…
Я не знаю, гауптман, интересуют ли вас такие детали? Но, разрешите мне поинтересоваться: здесь ходят слухи, что все, кто получил ранения под Уманью, будут поголовно награждены, а нас, меня, Мюнха и других ребят, выживших в той собачьей битве, собираются, чуть ли не заклеймить позором. В чем наш позор, Винклер? В том, что эти безумные русские головорезы не пожелали вступить с нами в честный бой, а натравили на нас своих собак?
Мне даже трудно представить себе, что должно быть в голове, в душе человека, делающего подобное – травить людей собаками? Раз ты воин, выйди и дерись! Мы ведь вышли биться честно, гауптман, а тут выходит, что мы получили увечья не на войне? Вдумайтесь, ведь по сути, в данном случае, собака – это уже оружие.
– Вы говорите, как юрист, Карл, – думая о чем-то своем, заметил Фридрих.
– А я и есть юрист, – горько улыбнулся Феллер, – только это в той, еще довоенной жизни.
Так, как мой вопрос? Наш доктор говорит, что еще не известно, будут ли мои руки в дальнейшем работать нормально. А если меня спишут, отправят домой, что там девушкам рассказывать? «Полюбите меня, цыпочки, я страшно пострадал на войне – меня укусили русские собаки?»
– Не ерничайте, Карл, – встал и подошел к окну Винклер, – никто, какие бы увечья он здесь не получил, не останется без внимания фюрера. Могу только вам посоветовать: лечитесь, выздоравливайте и проситесь обратно на фронт, чтобы успеть закрыть «Железными крестами» то, что сейчас, будто червь точит ваше тело и душу. Победа уже не за горами, вы можете и не успеть. Однако, об этом потом, с вашими вопросами еще успеем разобраться, сейчас важнее ответить на мои.
Скажите, Феллер, как вы считаете, коммунисты опоили своих собак чем-то? Может, прививки? С чего-то же эти псы так взбесились?
– Нет, гауптман, – озадачился Феллер, – тут что-то другое. Они, собаки… Черт возьми, я ненавижу их, но они были… умными. Каждая из них знала, что нужно делать, понимаете? И еще, я не помню того, чтобы в начале схватки хоть одна из них лаяла! Этого не было совершенно точно. Ни, когда они крались среди колосьев, ни, когда бросились на нас. Это потом стоял такой визг и лай, что его было слышно даже на фоне взрывов. Русские погибали быстро, а вот их псы все равно продолжали биться, и без людей…
– Биться? С кем? – Хитро, вполоборота спросил Винклер, не дав Феллеру договорить. – Насколько мне известно, встретившись с атакующими собаками, учитывая даже быстро погибающих русских, вам пришлось тут же … отойти?
– Пришлось, – снова с просыпающимся вызовом ответил унтерштурмфюрер СС, но тут же, поостыв, добавил, – чтобы не погибнуть от клыков этих собак. Германии нужны целые солдаты, а не разорванные в лохмотья.
– И что же было дальше, когда вы …отошли?
– А ничего особенного и не было, господин гауптман. Глядя на то, во что мы превратились, артиллеристы попросту перепахали снарядами и минами этот собачий плац. Те из нас, кто еще мог держать оружие и передвигаться, снова прошли этим полем. Нужно было добить уцелевших собак, сидевших у трупов русских…
– Псы были целыми? – Со странной надеждой спросил Фридрих.
– Нет, что вы, – тяжко вздохнул унтерштурмфюрер СС, – все они были в крови и сильно изранены. Но все равно, каждая доползала до своего «Ивана», ложилась или садилась рядом с ним и охраняла труп хозяина.
Мы перебили к чертям их всех! А потом вошли в деревню, и там тоже перестреляли всех собак. Даже щенков и меленьких, коротконогих дворняжек…
– Можно ли говорить уверено о том, что вы перебили всех из напавших на вас псов? – задумчиво спросил гауптман.
– Конечно, нет, – выпрямляя затекшую от долгого разговора спину, морщась ответил Феллер, – наверняка какие-то бежали в лес, не найдя хозяев, или еще куда-нибудь, это же собаки.
– Понятно. Зверей хоронили вместе с «Иванами»?
– Сразу после боя, мы собрали трупы своих ребят, а хоронить советских выгнали местных. Жарко. Оставлять покойников наверху – себе же дороже. Крестьяне сволокли всех русских в центр, выкопали большую яму, уложили там всех вместе с собаками, и закопали…
Винклер смотрел в окно и слушал молча детали похорон немецких солдат и то, как унтерштурмфюрер попал в Ровно. Из всего услышанного сейчас предельно ясным ему виделось только одно, обратно под Львов, откуда его командировали в этот госпиталь, он вернется очень нескоро…
Да, именно в тот день жители села Легедзино в полной мере начали ощущать на себе страшное дыхание войны. Прятавшимся по подвалам и погребам, им стало не по себе еще в тот момент, когда пушки красноармейцев начали стрелять по выползающим из рощи немецким танкам. От оглушающих залпов советской артиллерии закладывало уши, но селяне, те, кто был посмелее, борясь со страхом, во все глаза смотрели в дверные щели на горящие германские бронемашины и были почти уверены в том, что уж эта-то бесстрашная горстка советских солдат не отступит, упрется, не пустит немцев дальше, а вечером, или в крайнем случае завтра, к ним на помощь подойдут наши армии и, кто знает, может быть, как раз от их Легедзино и начнут выталкивать обратно этого ненасытного упыря-Гитлера? Да и в самом деле, сколько можно Красной Армии выгибаться и отступать? Вот же, пожгли танки, отошли фашисты, значит, уже научились их бить? Хорошо бы только успеть нашим отодвинуть немцев до Польши хотя бы к октябрю. Нужно собирать урожай, закончить с работой в полях, хлеб-то вот-вот начнет осыпаться…
Старый дед Бараненко осторожно выбрался из погреба и осмотрелся. За ним вышла невестка, Петрок, дед Фока с бабкой Галей, старшие соседские дети.
– Ото-о-о-ож, – довольно протянут дед Моисей, – гля, Фока. Ловко же они побили фашиста.
– Ла-а-адно, – огладил бороду сосед, и вдруг от страшного хлопка, раздавшегося где-то рядом, неожиданно для самого себя упал на колени и понял, что ничего не слышит.
Земля подпрыгивала под ним, а окружающие, так же, как и он очутившиеся на карачках, спешно устремились обратно к погребу.
Последними вползли в холодное подземелье деды Гончарук и Бараненко.
– Ох как шибает! – Кричал в затылок соседа, выглядывающего что-то в щели двери, Фока. – Моисей Евдокимович, – увидел он крохотные кровавые пятна его на сорочке, – да ты пораненый?
– Дрібниця, – отмахнулся огромной, мозолистой ладонью сосед, – ты лучше глянь, що робиться, Гончарук?! Во! Да не туды, дурья башка пялишься, себе во двор дывися! Хата твоя горыть!
Петрок был неподалеку от деда, и тут же подполз ближе, чтобы глянуть на пожар, но старик грубо отпихнул малого назад, поднялся, открыл дверь и махнул рукой, давая знак тем, кто был за спиной внука. Все бабы и дед Фока тут же, не страшась долбящих землю взрывов, с криками и воплями устремились к дымящейся хате Гончаруков.
Так уж вышло, что за старшего с ребятней остался Петрок, а с ним Яринка, дочка дяди Паши Пустового. Она была на год младше «Петра Ляксеича», как звал его дед, и аж до «крапивных колючек» в пальцах нравилась ему. Колотилась от взрывов земля, светились сквозь щели закрытой двери пыльные лучи и Петро, часто оглядываясь назад, замечал, что Ярине, как и всем детям было очень страшно. Наблюдая за творящимся на улице в щелку, оголец долго не мог решиться ей хоть что-то сказать, но первой заговорила сама Яринка:
– Петя, что там? – Спросила она, глядя на соседа таким пронзительным взглядом, что у того защемило под сердцем.
– Не потушат, – стараясь говорить, как взрослый ответил Петрок, – больно уж крепко горит. Про-опала Фокина хата. Там, в селе, видно еще мазанки и сараи повзрывались. Иди сюда, сама глянь: коровы ходят, вон козы Евхимихи бегают, какие они! Все в крови, а какие вон – целые…
Яринка начала осторожно подниматься к двери, но едва только она подошла, как страшный удар снаружи, отбросил и ее, и Петра назад, вглубь погреба. На них и других детей посыпалась труха, доски, балки и куски провалившейся крыши. В ушах звенело, в рот и глаза набилось пыли, но никто серьезно не пострадал. Дети, понимая, что даже в обвалившемся льохе7 не так страшно, как снаружи, только плотнее сбились в гурт, да заботливо стряхивали друг с дружки осыпающуюся вниз землю, вперемешку с опилками и соломой.
До самого вечера все вокруг гремело, стреляло и полыхало. Ближе к закату гром войны стал отступать за село, но взрослые, целиком занятые спасением того, что еще не до конца сгорело или разорвало снарядами, не торопились к погребу деда Бараненко. За окутывавшим все окрестности дымом темнело быстро и дети, сгрудившись в глубине выпустившего через пролом в крыше весь свой холод подвала, стали по очереди дремать. К моменту, когда вступила в свои права ночь, спали все.
Взрослые пришли за полночь. Видя, что земляной горб погреба ввалился внутрь, перепугались, стали звать детей. Те сонные, грязные, но слава богу целые стали выбираться сквозь завал наверх и с испугом смотреть на изможденные, перепачканные сажей лица дедушек, бабушек и мам.
Дед Моисей увидел Петра, подошел к нему и крепко обнял внука…
– Ото ж, унуча, – утирая слезы огромными ладонями, вздохнул он, – наделали, гады беды. У кого сарай, у кого хата, а кто и сам сгинул под бомбами. От так брат. Война. …А ты молодчина, Петрок. Як той сокіл всіх дітей крилами накрив, сберег…
– Я ж не один, – поднял голову внук, и посмотрел в сторону дочки агронома Пустового, – со мной Яринка…
– И Яринка молодчина, – устало подмигнул ему дед, – всі молодці, що цілі, а хаты, сараи, это дело наживное. Ничо, отстроимся еще, заживем лучше прежнего, нехай только все наши хлопцы вернутся с войны.
– Діду, а наша хата ціла?
– Наша целая, дзякуй Богу, – успокоил его дед, – и баба жива, и даж сарайчик не зачепило, ох, еще раз дзякую пану Богу. Малых наших ты сберег, будьмо як-то тепер жити…
– Моисей Евдокимович, – подошла мать Ярины, – мы перебросали сено, уложили, как вы сказали, можно идти.
– Корову отвели?
– Да.
– Ну, забирай детей, та идить до хаты, а мы с Петром Ляксеичем глянем еще разок, все ли в порядке, да и тоже придем.
Тетя Люба взяла на руки их младшего, Васька, Яринка обняла заспанную сестру Олэночку и собралась было свернуть за погреб Бараненок, на тропинку, что вела к дому агронома…
– Стой, доню, – опустила взгляд ее мать, – бомбами там… Погорело все у нас. Будем спать сегодня у Бараненок…
Яринка взяла за руку сестру и, будто не веря услышанному, сделала шаг к матери, но та повернулась и, плача в плечо обнявшего ее сынишки, молча пошла в темноту.
– От, брат, такие вот дела, – сказал дед, едва только Пустовые отдалились. – Не оставаться же им на улице. Соседям надо помогать. Хорошо, хоть корова их уцелела. И як тільки? Бомба рядом с сараем взорвалась, сруб и повалился, а корова, вот же живучая тварь, как-то рогамы бревна раскидала, да и выбралась. Чуть поймали. Скакала, как полоумная почти до правления. Завер-ну-у-ули. Ох, – снова вздохнул старик, – там, Петрок, у селі все горіло: и гумно, и людские хаты. С того краю мало что целого и осталось. Сельчан наших побило много, а уж сколько солдат! Ни один не уцелел. Все мертвые лежат.
– А немцы? – Неведомо к чему спросил внук.
– И немцы мертвые лежат, – махнул рукой дед, – и собаки. Видать и их побило.
– Всех?
– Кто их, хвостатых считал, Петро? – Пожал сухими плечами старик. – Пока тушили конюшню, кто-то вспомнил, что возле рощи псарня красноармейцев без присмотра осталась. Жалко стало, живые же твари в клетках сидять. Пошли глядеть, недалеко ведь, так там все загороди открыты. Кто-то их выпустил. Темно, не видать ничего, може де еще и бегають у селі. Не до них зараз, унуче.
Пийшлы спать, тока ты сходи вначале до нашего сараю. Корову-то Пустовых загнали, а бабы за день набегались и устали до смерти, могли недоглядеть чего. Проверь, Петро, чтоб закрыли все толком, а оттуда сразу домой, никуда не суйся, чуєш. Завтра все, с солнушком и посмотрим. А заре спать надо, силов боле нету…
В теплом воздухе помимо горького дыма пожарищ ощущался привкус чего-то неприятного, едкого. «Должно быть так пахнет взрывчатка или порох», – рассуждал про себя Петрок, стараясь по пути к сараю рассмотреть в густой темени хоть что-то из того, о чем говорил дед. Ноги то и дело натыкались на какие-то предметы, валявшиеся на пути и незаметные на темной, будто вспаханной земле.
Дорогу ему указывал лай их собаки Чуни, коротконогой, вертлявой шавки, едва ли не первой пришедшей в себя и решившейся поднять шум после того, что творилось в селе в течение дня.
– Чушка, дура, чего ты разбрехалась на ночь глядя? – Подходя к ней и с опаской глядя на бревенчатый угол, в сторону которого старательно отрабатывала свой собачий хлеб Чуня, попытался утихомирить пятнистого охранника Петро. Но «поросячий грех», как звали собаку дед и отец из-за схожести ее окраса, визгливости и, особенно шерсти, больше походящей на свиную щетину, никак не унимался. На дворе стоял непроглядный мрак. Петр Ляксеич даже в невоенное время не рискнул бы соваться в сторону бурьяна, густо обложившего пригорок за их хлипким тыном. Мало ли что или кто там? С чего-то же псина надрывается?
Петрок ощупал задвижку на двери, поправил подпорку, а это был кол, который всегда ставили для верности, чтобы дверь закрывалась наглухо, и тут Чуня вдруг перестала лаять. Не зря считается, что простые дворняги, особенно маломерки, очень смышленые существа. Сейчас она, замечая, что молодой хозяин так и не внял ее тревожному сигналу, не то рычала, не то …просила о чем-то, нетерпеливо бегая от ног человека к углу сарая и обратно. Как ни противился тому в начале Петрок, а любопытство потихоньку брало над ним верх и подталкивало глянуть что же там такое?
– Кто там, Чушка? – Нарочито громко спросил юноша так, будто был уверен в том, что собака ему ответит. Подтягивая ее за повод, Петро решительно шагнул вперед и быстренько заглянул за угол. Само собой, ничего он там не увидел, только непроглядные чернила ночи, да едва различимые вдалеке зубья березовых верхушек.
Отпустив повод собаки, юноша повернулся к двери, но вдруг услышал за углом звук, от которого у него все внутри похолодело. Кто-то отчетливо …то ли вздохнул, то ли застонал, причем таким низким голосом, что даже полуживой от страха Петрок сразу понял, это не человек. Чуня только жалостливо заскулила и тихо застыла у стены. Протяжный, глубокий стон тут же повторился.
Окаменевший от страха юноша вдруг понял, что тот, кто издает из-за угла эти странные звуки, явно чувствует его присутствие. В босых ступнях уже давно и неприятно елозили злые мурашки, призывающие немедленно сигануть в сторону дома. «Что уж тут? – рассуждал Петро. – Если и нужно было это делать, то намного раньше». Цепенящая пелена страха начинала отступать и сквозь ее то и дело проглядывали проблески здравых мыслей. Например, если та тварь, что прячется за сараем и хотела бы на кого-то напасть, то первой пострадала бы Чуня. Второе: тот, кто там прячется, в конце концов, уже напал бы и на самого Петьку! Ведь нечего и сомневаться, чует его, оттого и стонет чаще, будто зовет к себе. И третье: с чего-то же этот «кто-то» пока только стонет, а не рычит или воет? Видать плохо ему?
У самой земли, прямо под углом сарая, слышалось тяжелое дыхание. Темная тень высунулась из-за нижнего венца и тут же прижалась к земле. «У-у-упф», – снова низко простонал чужак и в этот момент, осторожно натягивая повод, к нему пошла Чушка!
Петрок набрался смелости и тоже сделал два шага к углу. С земли, лежа на огромных передних лапах, на него смотрела черная собачья морда. Юноша с облегчением выдохнул, медленно сел на корточки и, протянув вперед трясущиеся руки, осторожно погладил мохнатую голову. «Т-ты же …Дунай? – С трудом разомкнув сжатые страхом зубы, спросил он, – краса-а-авец, …за блинами пришел, по запаху…?»
Ладони стали влажными и липкими, собака была ранена. «Как интересно выходит, – подумалось Петрухе, – а ведь на самом деле какие-то небесные силы, или как говорит дед «пан Бог», все же нас слышат».
Десятки раз видел юноша выученных пограничных овчарок в привезенных «передвижкой» киножурналах об армии. Сверстники больше смотрели на танки, самолеты, дирижабли, а он, затаив дыхание, ловил каждое движение работающих с собаками бойцов. Петьке совсем не хотелось верить в то, что подобное умение пса, это тяжкий и каждодневный труд. В его детском понимании все это было совсем не сложно и грезилось, что вот если бы у него была овчарка, он сразу нашел бы с ней общий язык. Стоял посреди села, подавал ей всякие команды, а она, …она сама делала бы все, что ей положено и даже больше этого, а все бы только удивлялись: «який же вправний хлопець росте в Олексія Бараненко8».
Как на самом деле нужно было обучать собаку, Петрок, конечно же, имел весьма приблизительное представление. Случалось, он даже пытался тренировать Чуню. На выпасе, когда приходила их очередь коровьей череды.
О, это были еще те уроки. Своих буренок в селе было немного, но даже и это малое количество Чушка, слушаясь команд своего учителя, умудрялась разогнать так, что потом сам Петруха долго бегал и сбивал растревоженное стадо обратно в гурт. В его мечтах, конечно же, все было иначе. В них даже Чуня была овчаркой.
Возвращаясь вечером домой, и Петрок, и его лохматый помощник завистливо смотрели на колхозную череду, которая одним только взмахом руки любого из пастухов, заворачивалась выученными собаками куда было нужно. У всех этих «Тузиков» хватало еще времени и на то, чтобы отбежать в сторону и загонять до полусмерти несчастную Чушку. Пока она носилась по кустам, улепетывая от своих азартных преследователей на коротких, кривых ножках, Петро успевал себе представить, что бы было, если вдруг этот «Поросячий грех» за одним из пней как по волшебству обернулся бы в настоящую овчарку. О! Тут-то Чуня сполна бы отплатила этим злым негодникам!
«Да уж, – гладя раненного пса, думал Петруха, – детские мечты и выдумки. Однако же одна из них неожиданно сбылась!» Как ни крути, а сложилось все, как нельзя лучше. И Чуня, которую любила вся семья, ни в кого, слава Богу, не превратилась, и – на тебе! Теперь у Петра Ляксеича уже есть хоть и раненная, но самая настоящая пограничная овчарка. Только вот что с ней сейчас делать? Пойти – рассказать деду? «Не, – резонно рассудил Петрок, – все же лучше дотянуть до утра. Зараз старик будет отчитывать, скажет «велено было: проверить все и никуда не лезть»».
Дед был хорошим. Род его велся откуда-то с Руси и прозывался там Баранов, но, очутившись как-то в этих землях, сам собой переименовался в Бараненко. Оттого и балакал он сразу и на местный, и на русский манер. Мать говорила, что какая-то война привела деда в Украину, даже «Георгии» у старого имелись, лежали где-то в бабкином сундуке, в который не то детей, даже саму мать баба Мария редко допускала.
В давние времена, вдоволь навоевавшись, дед Моисей, названный таким именем по настоянию их местного попа, как-то слюбился с дочкой знатного человека, да так крепко, что та бросила всю свою знать, отцовское богатство и пошла за ним в простой люд.
Батя, бывало, не раз подмигивал в сторону своего родителя: «видать есть за что этакого молодца полюбить», а дети с ним и не спорили. Дед, как поселился с бабкой в Легедзино, все время работал в гурте грабарей9. Кожа на его огромных ладонях была толстая, как сапожная подошва, но это не мешало деду много читать, знать наизусть несчетное количество стихов и сказок.
Когда-то учительница в школе только заикнулась о поэме «Бородино», а Петрок чуть не подпрыгнул на месте, потому что уже слышал эти стихи не раз. Дед знал это, как называла длинные стихи учительница, «произведение» наизусть и в любой момент в какой-то жизненной ситуации запросто мог говорить словами оттуда или из какой-то другой книжки. Наверное, именно за это его бабка и полюбила когда-то, …а за что еще? Дед знал много.
Никто в селе и думать не смел, чтобы обозвать старого Бороненку – жид. Да и сами евреи, а их в Легедзино было четыре семьи, его сторонились и побаивались. Характер у старика был еще тот. Петруха хорошо помнил один разговор с отцом. Как-то они таскали воду в баню и сели отдыхать. Петруха сам не понимая к чему, возьми, да и спроси: «Бать, а чого це у нашого діда ім'я жидівське?»
Родитель грозно сдвинул брови, и с трудом сдерживаясь, ответил:
– Тебе б, Петро, дать …разок в потилицу, чтобы думал другой раз, перед тем, как говорить. На первый раз скажу тебе без «науки», уясни себе наперво, ни один жидок не станет, не разгибаясь, землю лопатой ворочать. У них всегда хитрости хватит проживать другим занятием, и не таким тяжким. Во-вторых, никто в нашем селе не отнесет деда в жидовске племя, потому, как он всю свою жизнь живет праведно, просто и без всякого обману. Да и в бане, сыне, воно ж и слепому видно, что вин не из их племени. А что до имени его, то тогда не родители, а попы в церкви нарекали детишек. В Библии есть какой-то Моисей, вот поп и сказал назвать батю так. Ты вот скажи, как деда соседи величают?
– Моисей Евдокимович, – неуверенно ответил Петруха.
– О, – многозначительно поднял палец к небу отец, – а многих из нас, трудового люду, так кличут по имени-отчеству?
– Неа, – замотал головой Петро, – только председателя, агронома, счетовода…
– Вот тебе и все слова, сынок. Это ж еще заслужить надо, чтобы тебя так в селе звали…
Овчарка глубоко вздохнула, возвращая гладящего ее человека из глубоких воспоминаний. «Нет, – решил Петрок, – все же деду пока ничего не скажу, утром его приведу…»
Он подошел к сараю, убрал подпорку и открыл дверь. В открывшийся проем тут же высунулась коровья морда и жадно потянула в себя воздух.
– Пошла, – шлепнул ее промеж рогов молодой хозяин, – но тут же высунулась и вторая морда, коровы Пустовых. Петруха взял кол и загнал обеих буренок поглубже в хлев. Те, как только поняли, что дверь открыли не для того, чтобы гнать их на пастбище, не особенно и сопротивлялись, уткнулись мордами в ясли и стали хрустеть сеном.
Юноша, чтобы не вымазать кровью портки и рубаху, снял их, после чего с трудом переволок не имеющую сил овчарку в сарай, уложил ее в угол за перегородкой и присыпал свежим сеном. Заперев все, как было раньше, он наощупь добрался до коровьей кадки во дворе и, обмывшись, оделся и отправился домой.