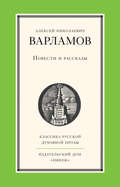Алексей Варламов
Одсун. Роман без границ
В окошко виден ярко освещенный луной склон горы и тени высоких деревьев. Тоскливо кричит ночная птица. Земля несется сквозь вселенский холод и слегка дрожит от космической турбулентности. Мне сорок девять лет, я живу в чужом углу, а своего у меня нету и, скорее всего, уже не будет. Мне становится ужасно грустно, так грустно, так жалко себя, что хочется плакать, хочется, чтобы меня кто-нибудь пожалел: учительница мама с ее верными учениками, покойница бабушка, отец или, может быть, Катя…
Памяти «Памяти»
Она стояла на винтовой лестнице, которая вела с сачка на второй этаж к конференц-залу в первом гуме. По этой лестнице ходили не часто, потому что зал обыкновенно пустовал, но в тот день он был открыт и народу собралось много по случаю вручения дипломов. Мы занимались тем, что невнимательно слушали недавно назначенного молодого декана, слонялись по просторному коридору, фотографировались, прикладывались по очереди к бутылке теплого шипучего вина и изображали радость, хотя никакой особенной радости не было. Ну закончили и закончили. Распределение год назад отменили, и если раньше каждый боялся, что его засунут в школу, то теперь куда идти работать и как жить дальше никто не знал.
Когда я поступал, нас отбирали для важной государственной деятельности: преподавать советскую литературу иностранцам, готовили к сложным заграничным командировкам, к идеологической борьбе и пропаганде социалистического образа жизни.
– Преподаватель советской литературы как зарубежной, входя в аудиторию, занимает огневой рубеж идеологической борьбы с врагами и полудрузьями, – была первая фраза, которую я услыхал на своей кафедре, однако потом на наших глазах все начало рушиться, и за несколько лет врагам и полудрузьям сдали всё, что было можно и что нельзя.
Сейчас многие у нас это время ругают, а я рад, отец Иржи, что оно совпало с моей молодостью. Помню, как все менялось на глазах: перестройка, гласность, Абуладзе, дети Арбата, белые одежды, факультет ненужных вещей, пусть Горбачев предъявит доказательства в «Московских новостях», и публичная лекция академика Афанасьева про Сталина на улице 25 Октября, куда было невозможно попасть, и народ стоял на улице и сквозь открытые окна ловил обрывки фраз. Это было время невероятной жажды правды, под видом которой нас так опоили новой ложью, что до сих пор не можем прийти в себя. Но ведь та жажда, честный отче, не на пустом месте возникла! Вам она ничего не скажет, у вас была своя нежная революция, и все закончилось миром, вы вон даже со словаками разошлись так, что никто не пострадал, а мы умылись кровью и продолжаем ее лить. Погодите, я скоро дойду и до своей коханой Катерины, но мой роман требует болтовни.
Так вот, я был счастлив, что все старое рушится. И каждый месяц, неделя, день, каждый новый номер «Октября», «Знамени» или «Нового мира» приносили что-то новое. Большая была стена, мощная, хоть и трухлявая, и мы отколупывали от нее по кирпичику, не соображая, что будет, если вся эта конструкция обрушится на наши головы. Нынче говорят, что надо было не так, ставят в пример Китай, и дядька мой то же самое твердил, когда мы с ним сидели в Купавне и он стучал огромадными кулаками по столу на террасе, клялся Ниной Андреевой и товарищем Лигачевым и клял Яковлева с Шеварднадзе.
– Убить их мало было! Куда КГБ смотрело? С кем боролось? Почему проглядело?
Но я все равно любил и люблю конец восьмидесятых. Мне жутко нравилось видеть, как день за днем мы отыгрываем, вырываем кусочек свободы и то, что вчера казалось невозможным, сегодня становится фактом. Сначала ругали только Сталина, но однажды я с изумлением прочитал в «Вечерней Москве», как писатель Астафьев назвал Брежнева чушкой, и вот тогда-то я и понял, что это конец. При дорогом Леониде Ильиче я родился, вырос, ходил в детский садик и в школу, я помню, как печально и жалостливо смотрела на нас учительница обществоведения Нина Ефимовна, когда он умер. И хотя мы высмеивали дефекты его речи и рассказывали про него анекдоты, все равно прочитать в советской газете «чушка Брежнев» – это было нечто запредельное. Не просто повторение оттепели, а самая настоящая весна: с грохотом разбивающиеся сосульки, потоп, ледостав, грязь, наводнение, – и этого уже было не остановить.
Да, батюшка, журналисты, режиссеры, писатели были в ту пору нашими героями и шли впереди всех. Я ходил на встречи с ними в какие-то дома культуры, окраинные клубы и даже на стадионы, – и все говорили страстно, дерзко, умно. Я слушал, как в студенческом театре МГУ старенького поэта Наума Коржавина, приехавшего по случаю из Америки, умоляли прочитать стихи про декабристов, которые разбудили Герцена, а маленький смешной Наум в очках с крупными линзами отнекивался, потому что боялся подставить тех, кто его сюда пригласил.
На том вечере, кстати, произошла одна история, которая поначалу показалась мне смешной и нелепой, а потом, наоборот, серьезной. В зале, где нынче православный храм, а тогда стояли рядами кресла и на месте алтаря была сцена, народу набилось невероятно много. Люди сидели на подоконниках, толпились в дверях, тянули головы, хлопали – и вдруг интеллигентная тетенька с красиво уложенными волосами и припудренной родинкой на массивном подбородке вскочила с места и исступленно закричала, вытянув палец:
– Уходи, немедленно уходи! Память, память…
Весь огромный зал вздрогнул, обернулся, и я не сразу понял, что этот перст указывает на меня.
– Провокатор, черносотенец, антисемит!
Я не мог ничего понять, а только чувствовал, как все вокруг застыли в напряженном ожидании.
– Пусть он немедленно уходит!
Челюсти при этом работали у нее так жутко, будто она хотела меня сожрать. Подслеповатый Коржавин на сцене замолчал и обиженно выпятил нижнюю губу, а до меня не сразу дошло, что тетку сбила с толку борода, которую я отрастил сразу после военных лагерей, – я показался ей членом националистического общества «Память». Однако ж до какой степени были наэлектризованы, взвинчены люди, если несчастная клочкообразная пегая бороденка, отращенная для пущей солидности молоденьким студентом, заставила мощную даму публично нападать на незнакомого парня и вынудить его с позором уйти. А между тем мы были с ней единомышленниками, и я, как и она, как и миллионы советских интеллигентов, балдел от происходящего, стоял по утрам в очередях за газетами, а ночами смотрел бесконечные трансляции со съездов народных депутатов, с упоением и абсолютной верой слушал двух следователей с дач купавинской прокуратуры Гдляна и Иванова – она ломалась все быстрее, эта старая махина, скрипела, крошилась, шла трещинами и сама не верила в свое исчезновение. И мы не верили тоже.
Но скажите на милость, как она могла выстоять, когда в восемьдесят седьмом году мой ровесник, девятнадцатилетний немецкий пацан аккурат в День пограничника пролетел полстраны на маленьком самолете и сел на Красной площади возле собора Василия Блаженного? Потом все спорили, что это было: тщательно спланированная акция Запада или обыкновенное российское головотяпство, потом про перестройку кинулись говорить – что то была национальная трагедия, предательство, пятая колонна, либералы, масоны, космополиты, агенты влияния. Но какие на хрен либералы, какие, отец Иржи, масоны, если первыми по улице Горького прошли те самые памятники, в принадлежности к которым меня обвиняла милая женщина из студенческого театра МГУ, а потом они же два часа терзали в Моссовете бедолагу Ельцина?
Говорят, нечто похожее случилось и в семнадцатом году. Тоже повылезала разнообразная шпана, и тоже все ликовали: долой царя, да здравствует свобода, демократия – а потом драпали за границу или забивались в подполье. Но если бы тогда мне сказали, что вот я иду и ору, счастливый, свободный, во всю свою юную глотку: «Долой КПСС!» – а потом за это буду нищенствовать, потеряю семью, родину, смысл жизни, я бы все равно орал: «Долой!» А коммунистов за то, что они дважды погубили мою страну, – и когда пришли и когда уходили, – не люблю еще больше.
Горячо – холодно
Но я отвлекся, простите, я буду часто отвлекаться, болтать и сам себе противоречить.
Так вот, пятый курс проходил в угаре, но не учебы – в угаре устроения жизни. Иногородние женились на москвичках, а самые продвинутые на иностранках, девицы торопились выскочить замуж, кто-то мечтал прорваться в аспирантуру, а кто-то остаться на кафедре. Меня не ждало ни то ни другое, учился я посредственно, но все равно мне было грустно уходить из университета, который я любил и всегда гордился тем, что я московский студент. Я верил, что в Москве есть только один университет, и позднее мне сделалось ужасно смешно, когда какой-нибудь институтишко вдруг начинал величать себя университетом. Мне был двадцать один год, я ждал от этих цифр чего-то необыкновенного, и в голове у меня роились романтические мечты завербоваться на Север, на Соловки или на Дальний Восток, на Курильские либо Командорские острова, узнать жизнь, поработать в районной газете, поездить по стране, и, наверное, жаль, что я этим мечтам не последовал. Однако подвернулась работа в головном издательстве, дурацкая, младшим редактором, и дядюшка Александр уверил мою маму, что это шанс, который глупо упускать, – карьера, рост, перспектива.
Вы хотите узнать про моего отца? Он умер, когда я был ребенком. Меня воспитывала мама и ее братья. Матушка второй раз замуж не вышла, и я не знаю, больше ли во мне теперь благодарности или вины перед ней. Это обстоятельство, кстати, роднило нас с Петей, хотя мы о нем никогда не говорили.
Но вы опять меня перебиваете, а в ту минуту с новеньким синим дипломом в видавшем виде дипломате я размышлял о том, как мы поедем к Тимоше на Фили, где у нашего общего друга Алеши Тимофеева была квартира в добротном кирпичном доме, принадлежавшем Западному порту, и там мы собирались отметить окончание универа. Только сначала надо было запастись спиртным, что в девяностом году было делом немыслимой сложности, ибо и водка, и вино продавались по талонам в очень немногих магазинах, так что надо было выстаивать огромные бесформенные очереди, в которых диктовали порядки шпана и алкаши.
Я уже размышлял, куда бы нам поехать: на Киевскую, Красногвардейскую или, может быть, Лодочную улицу – там был один укромный, мало кому известный магазинчик на берегу Химкинского водохранилища, куда можно было перебраться на речном трамвайчике от Речного вокзала, а дальше пройти пешком вдоль воды, – и именно в эту минуту я увидел ту девушку. Она была похожа на чью-то младшую сестру или, может быть, невесту, правда, для невесты слишком молода, пришла, должно быть, с кем-то из тех, кто получал сегодня диплом, но стояла одна, и было похоже, что она потерялась, как теряются маленькие дети. Эта ее беззащитность напомнила мне одно мое старое обязательство.
– Ты кого-то ищешь?
Она кивнула.
– Кого?
– Вас.
Повторяю, она мне правда кого-то или что-то напоминала, но я ее, конечно, не узнал, потому что она очень изменилась, как меняются, взрослея, девочки. Я только видел, что она страшно волнуется. Это волнение ощущалось во всем. Она волновалась, как волновалось Бисеровское озеро после семи часов утра, как волновалось купавинское поле, когда дул западный ветер, то есть я хочу сказать, целиком, полностью, каждой травиночкой, былиночкой, колоском. Простите, отец Иржи, я пробовал в университете писать стихи, очень плохие, и это, может быть, не слишком удачный образ, но именно так она волновалась или, точнее, так я про ее волнение подумал. И это волнение странным образом притянуло меня к ней. Так волнуются, еще может быть, перед экзаменами. И мне сделалось смешно, потому что все свои экзамены в жизни я сдал и больше никогда не буду учить вопросы и вытягивать билеты.
А она вздохнула, опустила голову, и я почувствовал, догадался, что если сейчас уйду, то эти прекрасные глаза наполнятся слезами, простите. Но я и не хотел уже никуда уходить.
– Может, вам подсказать? – спросила она упавшим голосом.
– Что?
– Ну там, горячо – холодно.
Я пожал плечами и сказал первое, что пришло на ум:
– Костер.
– Холодно.
– Картошка.
– Еще холоднее.
– Стройотряд?
– Нет.
– Общага.
– Холодно.
– Поход?
– Холодно.
– Осень.
– Холодно, холодно, – говорила она с каким-то невообразимым отчаянием, и правда, холодом пахнуло посреди жаркого душного летнего дня. А потом незнакомка так порывисто взмахнула рукой, что я схватил ее за тонкое запястье, чтобы она не улетела, и эта порывистость опять же мне что-то напомнила. Но я все равно ее не узнавал.
– Метро.
– Холодно.
– Сессия.
– Холодно.
– Сплав. Байда. Рыбалка. Сачок. Колок. Портвейн. Буфет. Красновидово. Азау. Третье ущелье. Сандал. Античка. Старослав. Истграм. Инстаграм. Поцелуй. Тысяча поцелуев, моя Лесбия.
– Холодно, – и тут она так глянула, что меня как будто дернуло током.
Я огляделся по сторонам – мы начали привлекать внимание.
– Ладно, давай по-другому. Ты меня давно знаешь?
– Да.
– А я тебя?
– Тоже.
– Я тебя раньше видел?
– Не видели, – согласилась она. – Потому что было темно.
– А ты меня?
– Много раз.
Она была так красива, так притягательна, и столько девичьей, женской прелести в ней было, что я оторопел. Платье на ней было светлое, легкое, оно просвечивало, но не вульгарно, а чуть-чуть, так, что можно было только догадываться о юном, гибком теле под ним. Я опять подумал, что эта девочка ошиблась, перепутала меня с кем-то, и мне стало ужасно обидно.
Нас обгоняли знакомые и незнакомые люди, на меня поглядывали с интересом мои нарядные, накрашенные сокурсницы, – надо было отойти, подняться или спуститься, чтобы уступить им дорогу; подскочил озабоченный, толстогубый Тимошка, похожий на зеркального карпа из прудов бисеровского рыбхоза, и, намеренно не глядя на девушку, показал мне на часы, но время я знал и без него и все равно не мог сдвинуться с места: пропадал, растворялся в этих черных смеющихся глазах, еще не знавших наслаждения своей силой, смущенных, довольных, виноватых, – в ней не было ни тени усталости, разочарования, жеманности или кокетства.
– Это было в Москве?
– Нет.
– В поезде?
– Нет.
– В самолете?
Она опять покачала головой:
– Я никогда не летала на самолетах.
– Я тоже.
– А зачем тогда спрашиваете?
«Ну же, ну же, вспоминай», – умоляли, плакали и смеялись глаза с дрожащими ресницами.
– А ты точно меня ни с кем не путаешь?
– Нет.
– Тогда скажи где.
– В Крыму.
В Крыму я был единственный раз в жизни, что значительно сужало поиск, но все равно вспомнить не мог.
– Пепито комэ лос пепинос, – неуверенно прошептали пунцовые нецелованные губы.
Я выкатил глаза – неужели это была?..
Комитет молодежных организаций
Простите, что я снова пью и плачу, иерей Иржи. Наверное, я действительно постарел, потому что сделался слезлив и сентиментален. Уже поздно, но не уходите, пожалуйста, а лучше позовите матушку Анну, может быть, она тоже послушает мой рассказ и станет ко мне чуть добрее. Ведь это правда, что я бесправный беженец и очень неаккуратный и, похоже, весьма бестактный, невоспитанный человек, но я никого не отравлял, не преследовал и не сделал никому ничего плохого. И скажите ей, что Крым у Украины мы не украли, – слышите ли вы эту чудную аллитерацию и сохранится ли она в переводе на чешский? – ибо как можно украсть у самих себя наше общее место, где я впервые с Катериной увиделся?
Только поклянитесь мне, хоть я и знаю, что клясться у вас, у попов, не принято, пообещайте мне тогда, что никогда вы не обратите против меня то, что я вам сейчас расскажу.
…Ровно за четыре года до этой встречи я сидел на десятом этаже стекляшки на кафедре античной литературы, пытаясь пересдать латынь Зиновьевой, и, подглядывая в шпаргалку, канючил «Вивамус меа Лесби, атквамемус». Это был мой единственный хвост. Я не умел учить мертвые языки. Живые кое-как мог, но к мертвым не лежала моя душа, и никакой красоты и гармонии я в них не обретал. А у Зиновьевой не лежала душа ко мне. Она невзлюбила меня с того раза, когда на ее вопрос, как переводится memento mori, я ответил:
– Не забудь умереть.
И теперь ее раздражало все: духота в аудитории, пыль, ее вчерашний разговор с заведующей кафедрой, ленивые аспиранты, пожилой муж, курсовые работы, пересдачи и, наконец, мое неумение отличить аккузативус кум инфинитиво от аблативус абсолютус. А кроме того, Зина обожала Катулла и мечтала поехать на озеро Гарда, где у ее античного божества две тысячи лет тому назад была вилла, но в большом парткоме опять отказали, хотя приглашение от Болонского университета приходило каждый год.
– Слушай ты, дубовая роща, если ты будешь выдавливать из себя стихотворение о любви, как прыщ, у тебя ничего не получится с девочками.
Прыщей у меня сроду не было, а дубовой рощей она звала всю нашу идеологическую группу, куда набрали одних парней с рекомендациями из райкомов комсомола, сделав для нас отдельный щадящий конкурс. И кто мы были после этого, как не дубы?
– Выучишь и придешь через три дня.
И ушла, уверенная в себе, женственная, носительница латыни и древнегреческого, как жрица храма не знаю кого, Аполлона, Артемиды, Афины Паллады, презиравшая все, что произошло с человечеством после разрушения Рима варварами, один из которых сидел перед ней.
А я поплелся по коридору. Я знал, что у меня не получится выучить стихотворение про прекрасную Лесбию и ее поцелуи, не получится запомнить дурацкие латинские конструкции и падежи, вряд ли меня за это вышибут из универа, но я точно останусь без стёпы, а эта стёпа долгая, с летними месяцами.
В учебной части не было никого, кроме маленького, очень живого ясноглазого человечка по имени Тиша Башкиров. Он посмотрел на меня с чрезвычайно озабоченным видом.
– Ты из какой группы?
– Испанской.
– Звонили из КМО.
– Откуда?
– Хлебалин заболел корью.
– Прививки надо вовремя делать.
– Он работал с делегацией перуанских партизан. Завтра в семь они вылетают в Симферополь, а оттуда едут в «Кипарисный».
– Корь заразна, у детей инкубационный период, и их надо посадить на карантин, а у меня латынь через три дня. Поцелуемся, моя Лесбия, не забудь умереть…
– За детей не переживай. А латынь, если полетишь вместо него, я тебе обеспечу.
Ясноглазый Тиша ведал в профкоме дефицитом, и у него были рычаги воздействия даже на неподкупную Зину.
Партизанская делегация состояла из трех человек: двух братьев десяти и двенадцати лет и их руководителя – плотного, крупного парня, моего ровесника, с маленьким смуглым лицом и курчавыми волосами. Он спустился с Анд и через месяц собирался туда вернуться. В Советский Союз Хосе Фернандес поехал, чтобы посмотреть на страну развитого социализма и подлечить желтые от коки зубы. Второе ему удалось, а вот СССР партизану не понравился абсолютно.
– Это не общество потребления, это общество суперпотребления, – проворчал он, обдавая меня зловонным дыханием, и стал рассказывать, как ходил в «Березку» покупать сувениры и как его там ободрали, потому что иностранец.
Как липку, хотел тупо сострить я, но у меня не хватало знаний, чтобы перевести для него нехитрую игру слов. К тому же я не был уверен, что правильно его понял, ибо внучка испанской эмигрантки из Сантандера Елена Эммануиловна Винсенс учила нас в университете благородному кастильскому наречию с выговариванием всех положенных звуков, дифтонгов и согласованием времен, а у Фернандеса в его гнилом рту была каша и грамматика в принципе отсутствовала. С мальчишками было чуть полегче: корь к ним, по счастью, не пристала, сами они оказались очень сообразительными, быстро освоились в отряде, объяснялись с вожатыми и другими детьми жестами, потом скоренько освоили языковой минимум, вплоть до площадных слов, и я им, в сущности, был не нужен.
Несколько дней я вообще не понимал, что от меня требуется и зачем сюда привезли. Я был второй раз в жизни в пионерском лагере, но от первого осталось такое отвратительное воспоминание, что и теперь я с ужасом и состраданием смотрел на детей, которые ходили в одинаковой форме, жили по распорядку, играли в вышибалы, отправлялись после обеда спать, это называлось у них «абсолют», и пели хором «Вместе весело шагать по просторам». Однако оглядевшись, я понял, в какую лафу попал сам.
Переводчики в лагере жили вольготно, просыпались, завтракали, обедали и ужинали, когда хотели, днем писали пулю, а после отбоя собирались в беседке, пили крымское вино, слушали музыку, танцевали или шли на берег, разжигали костер, варили мидий и рапанов, купались в чем мать родила, а потом делились на парочки, причем всякий раз новые. Это было похоже на игру «Ручеёк», нравы были вольные и незамысловатые, никто никому ничего не обещал, но Зина мне как ведьма наколдовала. Меня здесь не принимали, как когда-то в нашу компанию мы не принимали Петю. Точнее, принимали, но с насмешкой. Я был всех моложе, а выглядел и вовсе ребенком, так что вожатые удивленно на меня смотрели, когда я попадался им после отбоя: из какого отряда и почему не в форме и не в постели?
Я страдал по всем пунктам. Милосердный столичный народ, старшекурсники и аспиранты из иняза и МГИМО, владеющие разными языками от хинди до иврита, надо мною cтебались, как издевались мы опять же над бедняжкой Петей. А та, на которую я смотрел больше других (она работала с югославами и держалась крайне надменно), исчезала в ночи с кем угодно, только не со мной. Чем меланхоличней я на нее таращился и пытался смешно ухаживать, тем откровенней, назло она меня отталкивала. А потом закрутила роман с моим героическим партизаном, причем, поскольку испанского Даша не ведала, Хосе Фернандес потребовал, чтобы я до определенного момента переводил, после чего по его знаку проваливал. Не знаю, как она терпела его бойцовские ароматы и чем он запудрил ей мозги, но я был в бешенстве и печали, бродил вдоль моря, швырял камешки, искал куриных богов, ловил скорпионов, таращился на звезды, рифмовал море и горе и однажды услышал, как на лавочке кто-то плачет. Тихо, безутешно, всхлипывая и глотая слезы.
Сначала я даже не понял, кто это – мальчик или девочка. Коротко стриженные волосы, белая рубашка, выделявшаяся на черном фоне, – ребенок, подросток, чадо. Только довольно полное. Я подошел ближе.
– Ты что здесь делаешь? Почему не спишь? – я попытался придать строгости своему голосу, и тогда – матушка Анна, спасибо, что вы пришли! – пухлое дитя заплакало еще сильнее, как если бы мое присутствие освободило его от необходимости таиться.