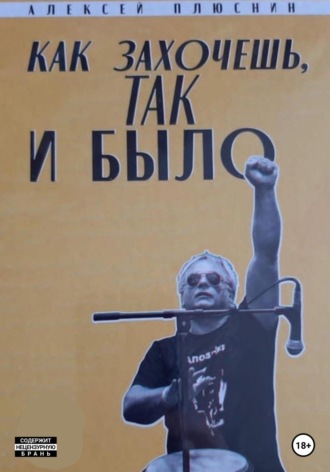
Алексей Плюснин
Как захочешь так и было
Новая Земля
В июле 1985-го года я поехал на Новую Землю. Это самое близкое к Северному полюсу место, где я когда-либо был. Даже база «Эсперанса» в Антарктиде была на десять градусов дальше. Оттуда до полюса рукой подать.
Архипелаг Новая Земля – это самый конец Уральского хребта или, по-ненецки, хребта Пай-Хой. К северу хребет загибается на запад и существенно понижается. От последних отрогов Пай-Хой до острова Вайгач, от Вайгача до Новой Земли идут подводные горные кряжи, служащие барьером, останавливающим ледяные массы Карского моря. (Забавно, что первоначально слово «архипелаг», образованное двумя греческими словами ἄρχι – «главный» и πέλαγος – «море», означало Эгейское море и вообще море.) Хребет Пай-Хой и делит эту часть океана на Баренцево и Карское море.
Уральский хребет старый, он старше Памира и уж тем более Кавказа. Горы ниже и глаже. Так далеко на север уже практически нет растительности. Лишь мхи да лишайники. Иногда в низинах холмистой части Южного острова попадаются сильно искривленные березки, не больше полуметра высотой.
Лето там похоже на лето в Антарктиде. Короткое. Но когда светит солнце и нет ветра – вполне приятное. Ландшафт совершенно фантастический, как будто из лемовского «Непобедимого». Суровый и какой-то бесчеловечный. Собственно, людей там и не предполагалось. Норвежцы и русские, равно претендующие на открытие Новой Земли, так и не смогли обжить её. Ненцев, которые жили там с конца XIX века, переселили в начале 50-х, когда архипелаг закрыли и сделали его полигоном для испытания ядерного оружия. С тех пор там живут военные и их семьи. А судя по останкам лагеря в районе пролива Маточкин Шар, жили зеки. Их там давно нет, но колючая проволока и наблюдательные вышки указывают на их присутствие в недавнем прошлом.
Советский Союз проводил на Новой Земле испытания ядерного оружия, иногда по несколько раз в год. Я уже упомянул, что горы Новой Земли старые. Это означает, что найти в них твердый массив очень непросто. Этот массив нужен, чтобы, пробив туда горизонтальный ход, штольню, в специально оборудованном «боксе» провести испытание ядерного устройства. Чтобы найти в горе этот массив, нужны геологи, которые обмерят гору всеми возможными способами, просканируют её и найдут место для бокса. Дальше уже дело шахтеров. По четко выверенной траектории ведут они выработку к предполагаемому боксу. Обычно массив невелик и его окружают рыхлые породы, которые при взрыве выбрасывает высоко в воздух вместе с радиацией. Поэтому точность измерений и работы шахтеров очень важна. Вот в такую бригаду геологов я и несколько моих одногруппников по институту и попали летом 1985 года. Аккурат в летние каникулы между пятым и шестым курсами.
Рассказывая о поездке в Полярные Зори, я уже упоминал, что моя мама – геолог. После переезда в Москву она уже несколько лет работала в Монголии, изредка наведываясь в Москву. В один свой визит она и договорилась чтобы нас, нескольких студентов МИРЭА, взяли в геологоразведочную партию на Новой Земле. В середине июля мы вылетели из Москвы сначала в Архангельск, а потом на секретный аэродром «Амдерма-2», который находится на южном острове архипелага Новая Земля, в самом устье бухты Белушья Губа.
Поселок Белушья Губа, или попросту Белушка, представляет собой типичный военный городок, построенный в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Поэтому он так похож на многоквартирные ленинградские застройки тех времен: Купчино, Гражданку, Автово. Этакий ад по Ле Корбюзье, функционализм которого, свободные формы и открытые фасады, выглядящие так футуристично и красиво в фильмах новой волны, в реальности советских типовых застроек породили целые районы с ярковыраженной, почти классовой принадлежностью. Кирпичики панельных домов, лишенные балконов, с небольшими окнами, планово окаймляют главную улицу Белушки – Советскую.
Центром поселка является Дом Офицеров и площадь перед ним со стоящим неизменным Ильичом. Мы были там летом, и ландшафт, хоть и скуден и суров, тем не менее изобилует оттенками черного, серого и коричневого, что придает Белушке своеобразное очарование. Белые домики выглядят как форпост на чужой планете. Здесь сразу чувствуется кто хозяин. Природа не только не покорена и не оформлена, как в цивилизованных частях планеты, напротив, человек с его постройками, прямыми углами и точными пропорциями лишь гость, которого терпят, пока он не станет слишком назойливым. Зимой же выпадает столько снега, что, если его не убирать, он заносит дома под крышу.
Никакого транспорта, ни общественного ни личного, в Белушке нет. Среди местных рассказов и легенд ходит история о том, как один из адмиралов, командующих островом, заказал с материка пару черных «Волг». Их доставили и запарковали на площади перед зданием офицерского клуба. И благополучно забыли. Ведь для местных расстояний и дорог они абсолютно бесполезны. Когда же, ближе к лету, снег начал таять, один из гусеничных транспортеров-тягачей – ГТТ, обычное средство передвижения на Новой Земле – царапнул своей гусеницей что-то металлическое, скрытое под зимним снегом. Это оказалась крыша одной из черных «Волг», которые так и простояли всю зиму на площади.
Вода в бухте Белушья Губа холодна вне зависимости от времени года. Баренцево море, хоть и называется морем, фактически представляет собой часть Северного Ледовитого, самого холодного океана планеты. Буквально за несколько дней до нашего приезда с пирса при швартовке судна двое матросов упали в воду. Пока их вылавливали, один умер от переохлаждения.
Белушка – административный центр Новой Земли, которая, в свою очередь, входит в Ненецкий национальный округ. Но прежде всего это военный объект государственного значения. Адмирал здесь царь и бог. Рассказывали, что в бытность прошлого адмирала, командующего островом, того самого, который заказал черные «Волги», на железнодорожной станции где-то в Краснодарском крае военным патрулем был задержан отсутствующий в накладной вагон с катером, предназначавшимся для сына адмирала, учившегося в Одесской мореходке.
Но, как всегда бывает при дворах, не меньшей властью обладает персонаж, напоминающий скорее шута. В наше время этаким отцом Жозефом* был простой мичман, завскладом, у которого при глобальной проверке и не менее глобальной недостаче на складе оказались все распоряжения начальства по полулегальным транзакциям, причем в письменном виде. Говорили, что за дочь он отвалил чуть ли не миллион приданого.
Буквально на следующий после прибытия день мы двинулись дальше. Нашей целью оказалась совсем не Белушка, а маленькое и загадочное поселение «Девятка» в западной части пролива Маточкин Шар, что разделяет архипелаг на два острова: Южный и Северный.
«Девятка», или поселок Северный, без постоянного населения, база подземных испытаний, где я прожил больше месяца, находится на 73°12′ с. ш. 56°27′ в. д. От Белушки туда 350 верст по местности, напрочь лишенной какой-либо растительности и дорог. Низкие холмы наплывают друг на друга, скрывая горизонт, как в прериях Колорадо и Канзаса. Только тут они не зеленые или желтые, а тёмно-серые или грязно-коричневые. То тут, то там попадаются озерца, или, скорее, лужи, оставшиеся после таяния снега, готовые замерзнуть и впасть в спячку после короткого и скромного расцвета. Дороги как таковой нет, только ориентиры, по которым идут ГТТ. Они чем-то напоминают бронетранспортёры, только без брони и пулемёта на башне. Эдакие пустынные катера. Самое разумное в них – спать по дороге, все равно тряска и шум двигателя не дают даже говорить.
Нас поселили в двух вагончиках на сваях из металлических труб. Кроме теплоизоляции, эти сваи выполняли ещё одну важную роль. Они приподнимали вагончик как можно выше, для того чтобы зимой не пришлось выкапывать ход к дверям после обильного снегопада. Старожилы рассказывали о зимах, когда почти весь поселок был настолько завален снегом, что на поверхности виднелись лишь черные дыры туннелей, ведущих к входам домов и вагончиков. Но в августе нам это не грозило. Вокруг было царство грязи, мха и камня. И, как ни странно, цветов – маленьких, прижимающихся к земле, с мясистыми, как у рододендронов, листьями. Их редкие колонии на фоне зеленого мха покрывали камни рыжими, как ржавчина, пятнами, ещё более усиливая сходство с планетой Станислава Лема, где могучий Циклоп, разбрызгивая ядерную энергию, безнадежно проигрывал кибербиологической Туче.
Залив Маточкин Шар сурово синел в нескольких сотнях метрах вниз, а расступившиеся в долине речки Шумилихи склоны открывали потрясающий вид на Северный остров, покрытый непроходимой стеной заснеженных гор.
Наша работа состояла из двух частей. Либо мы носились по холмам, обвешанные приборами, проводя магнитную или сейсмическую съемку, либо делали то же самое, но в штольне. И в том, и в другом были свои плюсы и минусы. При работе в поле приходилось довольно много двигаться и даже бегать по маршруту, зато внутри штольни было весьма холодно, часто ниже нуля. И там, и там особо канителиться не приходилось. Мне больше нравилось в штольне. Она тянулась вглубь на несколько сотен метров, вместе с ответвлениями образуя целую сеть туннелей с рельсами и вагонетками. Мы подъезжали на ГТТ ко входу в штольню, а дальше вагонетки развозили нас по объектам. Освещенные тусклыми лампами туннели таинственно терялись во мраке, изредка сходясь в узле, где была отапливаемая каптёрка и где можно было погреться и даже поваляться на теплых трубах. Это удавалось сделать после обеда, который состоял из банки разогретой тушенки с хлебом и чая со сгущенкой. Пожалуй, одно из самых вкусных переживаний в моей жизни. После прошедших тридцати лет и половины земного шара, которую я объездил и где пробовал самые экзотические блюда, я все ещё помню вкус этого крупнозернистого рассыпчатого серого хлеба, тонувшего в растопленном жиру горячей банки тушенки.
За время работы в штольне я несколько раз побывал в заветном боксе – комнате, в которую закладывают испытываемое ядерное устройство. Самой бомбы я, конечно, не видел, но непосредственно за несколько часов до её установки в боксе был. Обычно мы занимались сейсмической съемкой, для которой приходилось колотить тяжеленной кувалдой по каменным стенам туннеля. Не бог весть какой труд, но несмотря на то, что никто нас не торопил, к обеду обычно намахаешься кувалдой так, что после чая клонит в сон немилосердно. К вечеру и те, кто работал в поле, и те, кто в штольне, съезжались к вагончику и после непродолжительного вечернего досуга отрубались.
Основной опасностью магнитосъемки на склонах была гипотетическая встреча с белым медведем. Сразу скажу, я так и не встретил это, пожалуй, самое опасное и сильное животное на Земле. Но напряженная атмосфера при работе на маршруте и постоянное внимание к горизонту, которое проявляли старшие и более опытные товарищи, вполне убедили меня в том, что это не пустая угроза. Чаще всего животные боятся человека и уступают дорогу, едва услышав его запах. Но только не белый медведь. Тут, в ледовых просторах, он полновластный господин. И не дай бог вам встретить медведицу с медвежатами. Если она почувствует угрозу потомству, вам вряд ли удастся уйти живым. Белый медведь бегает со скоростью до 60 км в час, плавает, лазает и вдобавок весит почти полтонны. В холке он со взрослого человека, а встав на задние лапы, ростом поболе Шакил О’Нила* будет. Убить его чрезвычайно трудно. Однажды, ещё во времена работавших в «Девятке» хрустальных приисков, на вышке одному из охранников со скуки захотелось покуражиться, и он выстрелил в проходящего неподалеку белого медведя, после чего медведь залез на вышку, стащил незадачливого вояку, который в истерике выпалил из автомата целую обойму, вниз, разделал, как на бойне, и ушел за тридцать километров, где его ещё несколько часов добивали с вертолета.
Кстати, всех участвовавших в операции списали на берег, так как трогать белых медведей строжайше запрещено.
Ещё в Белушке, на базе геологов мы встретили одного разведчика, который повел другой отряд на восточную сторону Маточкиного Шара, где не было никаких поселков и надо было жить в палатках. Так вот у него не хватало кисти руки. Кто-то рассказывал, что это была работа белого медведя, но на самом деле руку ему покалечила толовая шашка, которую он взорвал, обнаружив в палатке мишку, забредшего туда в поисках съестного.
Ещё рассказывали, что несколько лет назад в Белушке приблудился медвежонок. То ли мать его погибла, то ли что, но только повадился этот медвежонок отираться около магазина. И до того обнаглел, что выйти из магазина, не заплатив ему за это выкуп в виде печеньки или конфеты, было просто нельзя. Особенно он уважал сгущенку в банках, которую клал на камень и одним ударом лапы размазывал по всему камню, а потом слизывал. Один скупой сундук-мичман попробовал не заплатить дань, так тот его догнал и просто по спине постучал, мол: «Ты чего, мил человек, непорядок!» Так лапой куртку вместе с кожей скупому сундуку со спины и снял.
Особенную часть местного фольклора составляют рассказы об испытаниях. Весь остров так или иначе привязан к этим испытаниям. Это гигантский труд, требующий и оправдывающий существование практически всего, что находится на острове. От работы аэродрома Рогачево до палаточного лагеря в восточном проливе. И пиком всей кропотливой работы является «испытание устройства», или, проще, взрыв атомной бомбы.
Тут взрывали по-всякому. В основном, под землей. Но были и надземные, и даже надводные испытания. Как-то кто-то из умников с корабля, который все местные называют «Наука», придумал испытать атомную гранату. И сделать это он решил на платформе неглубоко под водой в проливе Маточкин Шар, как раз напротив Девятки. Народ, который заверили, что ввиду малой мощности заряда взрыв будет незначительным, высыпал на улицы, а кое-кто забрался на крыши домов и вагончиков. Говорят, от взрыва крыши летели по несколько десятков метров.
Кроме того, «Наука» привозила две невиданные здесь вещи – алкоголь и женщин. И пусть вторые были либо чьими-то женами или учеными, а первый представлял собой переживший зимнюю заморозку «токай» чудовищного вкуса, всё же это было лучше, чем одеколон «Красная звезда», которым мы уделали все кружки на кухне.
Не знаю, выдаю ли я секреты страны, но при одном испытании мне довелось присутствовать. Правда, нас для этого вывезли на «Науке» миль за тридцать от берега, прямо в Ледовитый океан. Удовольствие, скажу я вам, небольшое. Нас так болтало в океане, что я заблевал все что можно. А когда в довершение всего наш корабль подпрыгнул метров на пятнадцать из-за взрыва бомбы, тут я и вовсе струхнул. Как выяснилось, это стало переломным моментом для меня.
Перед испытанием мы несколько дней ждали погоды. Я уже говорил, что породы в местных горах рыхлые, и если что-то пойдет не так, или бокс расположен чуть не там, где ему положено быть по расчётам, которые, в свою очередь, обладают погрешностью, то последствия могут быть весьма печальными. Собственно, в нашем случае такой сценарий частично реализовался. Когда после взрыва огромное облако, выброшенное горой, под влиянием изменившейся погоды повернуло не на север, как все ожидали, а на юго-запад, и через неделю выпало радиоактивными дождями где-то в Норвегии, нота норвежского посольства легла на стол МИД буквально на следующий день. Правда, тогда мы ещё умели договариваться с соседями по-хорошему.
Неприятности на этом не закончились. Едва вернувшись в наш вагончик, мы оказались опять в ГТТ по дороге на склон горы, где проходили испытания. Нас всячески уверяли, что радиационный фон в норме, но на просьбу выдать радиометры что-то хмыкнули и дали пару, один из которых не работал. Приехав к месту назначения, мы разбрелись, увешанные приборами, как обычно. Не прошел я и нескольких сотен метров, как наткнулся на большую щель в породе, из которой несло сероводородом, что из твоего привокзального сортира. Один из радиометров у нас был с собой. Мы в легком оцепенении посмотрели на его экран. Прибор зашкалило. Я развернулся и увел с собой всю группу, посадил всех в ГТТ и заявил водиле, что мы едем домой. Дома в вагончике я поднял настоящий мятеж, который закончился массовыми увольнениями и отсылкой домой. Прежде всего, меня как зачинщика. Но мне было плевать. Я не хотел проверять на себе рассказы геологов, которые ездят сюда по десятку лет и хоть бы что. Так закончилась моя северная эпопея.
Своеобразная атмосфера таких мест, немногочисленность и специфичность людей, живущих или просто оказавшихся там, порождают целую культуру – со своими правилами, понятиями о добре и зле, своим кодексом чести. В простоте, вызванной скудостью окружающего, как и в природе тех мест, есть глубина и тонкость, красота и правильность. И хотя я собственными глазами видел, как один из местных солдат пытался вбить отвертку в глаз другому, напрочь игнорируя приказы офицера, я понимаю тех, кто каждый год не мыслит себе другого пути на лето, кроме как в Заполярье. А зимой мается в городе и ворочается ночью, когда снится ему грохот льда и вой ветра в мире, на сотни парсеков отдаленном от цивилизации со всеми её прелестями и удобствами.
Горбушка
В 1981 году я переехал жить в Москву. Мама уже работала в Монголии, и в моем распоряжении оказалась наша, чудесным образом выменянная на равноценную квартиру в Ленинграде, двушка на привычном третьем этаже блочной хрущевской пятиэтажки между станциями метро «Перово» и «Новогиреево». Я прожил там десять лет, там у меня родился первый ребенок, там прошел весь мой ранний рок-н-ролльный экпириенс.
Я перевелся с физтеховской кафедры при ЛЭТИ. В Питере не было и нет учебного Физтеха, только научно-исследовательский институт им. Иоффе, которым тогда руководил академик Жорес Иванович Алферов. Он же был завкафедрой, на которую я поступил, побывав в их зимнем лагере. Проучившись там год, я перевелся в столицу. Я хотел в университет, но не срослось, и я поступил на второй курс Московского института радиотехники, электроники и автоматики, что на юго-западе столицы, в огромной низине, давно уже застроенной, а тогда почти не тронутой.
Какое-то время ушло на первые знакомства. Почвой для быстрого контакта была, как обычно, музыка. Я зорко оглядывал коридоры института, высматривая пакет с характерной квадратностью, означающей, что в нем лежат пластинки. Так я вычислил Саню Киреева, моего сокурсника с другого потока. У него оказался с собой «Pictures at Eleven» Роберта Планта и «Selling England by the Pound» моих любимцев Genesis. Саня просветил меня насчет мест в Москве, где можно было найти пластинки и людей. Шел 1982 год.
В первую же субботу я отправился с классическим пакетом к магазину «Мелодия» в самом начале Ленинского проспекта. Позже в соседнем доме жил Миша Жуков. Прямо на выходе из метро «Октябрьская» ко мне подвалили два вертлявых молодых человека с традиционным вопросом: «Что интересует?» По тому, какой первый вопрос задает человек на балке, можно определить, кто он: коллекционер, барыга или просто случайно интересующийся. По специфике названий и профессионального сленга можно определить, откуда пассажир, с точностью до города. У этих двоих оказался на продажу Emerson, Lake & Palmer «Trilogy» и совершеннейшая и неведомая неожиданность – два первых альбома Dead Kennedys. За каждый они просили по тридцать рублей. Я не купил, хотя меня очень заинтересовала высохшая ручка, или лапка на обложке «Plastic Surgery Disaster». Попытался выменять, но был окинут презрительным взглядом. Знали бы, с кем разговаривают!
Парой лет позже, там же, в коридорах МИРЭА, я познакомился ещё с двумя пластиночниками. Я уже знал людей, которым нравился фанк, но это было больше со стороны диско. Мои новые знакомые, высокий и слегка дискоординированный Алеша и Женя с внешностью коренного жителя Гарлема или Бронкса, любили другой фанк. Вернее, они любили не только диско-фанк. Женя Кинёв, по прозвищу Мандарин, умудрился подсадить на эту музыку всю столицу. До института он служил в Кронштадте, но в Питере он вряд ли добился бы таких успехов. Флегма и болотная депрессия не способствуют любви к фанку.
С этого началось. Потом были несколько лет нелегальной тусовки с пластинками: от «Мелодии» на Октябрьской до «Мелодии» на Маяковской. С существовавшим пару лет субботне-воскресным клубом в Химках, беготней от ментов, списками на перфорационных компьютерных карточках и непременными встречами в глухих концах фойе центральных станций метро.
Менты не то чтобы особо парились по поводу всего этого, существовавшего в слегка теневой области советской жизни рынка, но при случае не стеснялись задержать на пару часов в отделении несчастных меломанов с оттягивающими руки сумками с винилом и вороватыми юркими глазами. Это были уже не семидесятые и тем более не шестидесятые, когда по статье за спекуляцию можно было реально сесть, как сел Рудик Фукс-Соловьев, автор бессмертного текста «Семь сорок» и пионер записи «на костях». Тем не менее, несмотря на явное снижение накала идеологической борьбы с тлетворным влиянием Запада, в менты нас, пластиночников, брали регулярно. В районе магазина «Мелодия» на Маяковской я побывал во всех отделениях милиции, по обе стороны Садового кольца и улицы Горького, и по многу раз. Был период, месяца два, когда я умудрялся попадать в менты каждую субботу почти без перерывов. Апофеозом стало, когда меня с двумя сумками винила приняли прямо на сходе с эскалатора станции метро «Маяковская» и под белы рученьки препроводили в обезьянник.
Особо захватывающий сюжет имели облавы, устраиваемые целыми подразделениями милиции в районе пригородных станций электрички, куда с закрытием клуба в Химках переместилось филофонирующее сообщество. К вечеру пятницы в основном по телефону разносилась весть, где будет очередная балка*, и к девяти утра на нужный вокзал подтягивалась поодиночке и малыми группками вся пластиночная братия. На заранее выбранной станции все торговцы пластмассовой нетленкой выходили, и, отойдя недалеко, располагались на какой-нибудь поляне, как цыганский табор. Прямо на земле, подстелив газету или клеенку, раскладывали пластинки. Попадались плакаты и другая мемораблия, иногда появлялись шмотки, но на них смотрели косо, так как это была уже натуральная спекуляция, и они исчезали. Вот на эти-то сходняки и устраивали облавы то местные, то московские менты. С автобусами и даже собаками. Никогда не забуду, как в Новоподрезково, что по Ленинградке, во время самой, пожалуй, большой балки того времени, на которой, как потом с трепетом сообщалось, даже оружием кто-то торговал, появились менты с собаками на фоне садящегося за железнодорожную насыпь солнца. Сначала показались их фуражки, а потом они выросли цепью, как во вступлении к «Неуловимым мстителям». Пойманных грузили в автобусы, стоявшие на трассе. Спекулянты носились по кустам, перелескам, свежевспаханным грядкам огорода одиноко стоящего деревенского дома с хозяйством, в сортире которого в течение четырех с лишним часов прятались пятеро, пока облава не закончилась и автобусы с ментами и задержанными не уехали в город.
Второй, по воспоминаниям, была облава на станции Опалиха, что по Рижской дороге, когда мы с Андрюхой Борисовым, будущим продюсером и основателем лейбла и телепередачи «Экзотика», буквально плыли по грудь в снегу. Там же я совершил обмен, которым горжусь до сих пор. Провел я его с Лёхой Гладышевым, одним из самых интересных московских виниловых жучков, глубоко копавшим во все стороны современной музыки. У них была такая компания (аналогичный коллектив в коллективе есть и в питерском клубе филофонистов), которая не просто перепродавала попсу и модные тогда «последние дела», то есть только что выпущенные альбомы, а интересовалась самыми разными жанрами и придавала унылой тусовке мелких спекулянтов, впоследствии «перешедших на видео», интригу и ощущение причастности к предмету обожания и недосягаемой пока культуре. От них я впервые услышал «Rock in Opposition», Клауса Шульца и немецкую электронику, и ещё многое-многое другое. При этом, как и положено заслуженным пластиночникам, они никогда не чурались подзаработать, поменяв мало кому нужные редкости на коммерческие позиции. Так я отдал Гладышеву «Making Movies» Dire Straits, «Prince Charming» Adam and the Ants и ещё какой-то популярный тогда диск, а получил «Elegy» Nice, «Live in London» Amon Duul II и «Ice Cream for Crow» Captain Beefheart, который поразил меня до глубины души вещью «Ink Mathematics».
Первобытный период в истории отечественной филофонии закончился с перестройкой. В истории падения советского строя наряду с «объективными» причинами принято отмечать роль правозащитников и вообще прогрессивной интеллигенции, тупость лидеров, бойкот Олимпиады, Афганскую войну. Но никто никогда не вспоминает трех «генералов» вражеской армии в этой холодной войне – джинсы, жвачку и виниловые пластинки. Эти три незаметные и обыденные вещи нанесли по идеологии позднего совка удар такой сокрушительной силы, что по сравнению с ним любое оружие массового поражения – лишь безобидная новогодняя хлопушка.
Как-то после очередной массовой облавы на Маяке ко мне подошел молодой человек. Мы иногда пересекались на туче*, то есть мы никогда не менялись пластинками, но лицо его было мне знакомо. Это был Игорь Тонких. Он предложил мне попробовать устроить легальную встречу в ДК им. Горбунова, принадлежавшему оборонному заводу им. Хруничева, секретарем комсомольской организации которого он был.
Первая встреча произошла в фойе перед малым залом ДК, и какое-то время новоиспеченный клуб филофонистов базировался именно там. Его первым председателем стал Саша Тихов, как раз один из той самой тусовки «продвинутых». В группу актива входили Андрей Борисов, Андрей Варыгин по прозвищу Кгбычно, так как был сотрудником органов, и мы с Жабой. Бори Симонова ещё не было.
Борис Николаевич Симонов, как Мориарти, оплел всю пластиночную Москву сетью, которой руководил из крохотной однокомнатной квартирки на Преображенке. В конечном итоге, как и всякая другая муха, я затронул одну из его нитей и был удостоен личной встречи. Вероятно, он хотел посмотреть на того, кто хотел купить The Residents и «чего-нибудь ещё в таком же духе». С появлением в составе актива Бори, который сменил на этом посту Тихова и оставался председателем Московского клуба филофонистов до самого закрытия «Горбушки», «заседания» клуба перебрались в фойе Большого зала, где было на порядок просторнее.
Боря открыл мне мир американской музыки, куда я влез, начав с его любимого тинейджа, и который так полюбил. Я, конечно же, слушал американские группы и до этого: Grateful Dead, Jefferson Airplane, Grand Funk, Kansas и многие другие, но отличал от общего потока музыки рок, пожалуй, только Velvet Underground как нечто, символизирующее географическое место, называемое Нью-Йорк. До того момента я делил музыку преимущественно по жанрам. С Бориной подачи я открыл для себя не только целый мир музыки, но и метод её анализа и классификации, что помогло мне в моей профессиональной деятельности как музыканта и позволило увидеть Джонни Кэша и Билла Монро в Юджине Чэдборне, или минимализм нью-йоркской школы в Velvet Underground и Pink Floyd.
Вся наша команда активистов сидела слева у входа внутри ДК за большими столами, на которых было удобно раскладывать пластинки. В те времена никто не мог себе позволить ставить пластинки в ящики, просто не было такого количества пластинок, по крайней мере, на обмен и продажу, и пластинки лежали, закрывая одна другую, оставляя лишь верхнюю часть конверта, чтобы можно было узнать, что это. Рядом был организован буфет, что было как нельзя более кстати. В этом буфете даже поработал Черепов в период активного роста организованной Игорем Тонких фирмы «FEE-LEE».
Сборища филофонистов были популярны. На них, кроме постоянных посетителей, приходила масса самого разного народа. От периодично приезжающих провинциальных дилеров-челноков, которые, набрав заказов на родине, отоваривались в «Горбушке», до композитора Матецкого, с вельможным видом покупавшего очередного Леонарда Коэна. Наши музыканты вообще-то предпочитают беречь свою неискушенность в предмете, как юные девственницы, но среди них случаются исключения. Пожалуй, чаще всего из действующих спортсменов появлялись Саня Скляр, Егор Летов, который в каждый свой приезд в столицу обязательно приходил за новыми старыми пластинками. Виталик Стерн и Игорь Колядный сначала стали постояльцами «Горбушки», а уж потом организовали наш ответ Muslimgauze, электронный дуэт «Виды Рыб». Коля Арутюнов, филофонист со стажем, в конце концов спевший со своими кумирами, и когда-то эмоционально меня грузивший, что надо играть музыку как Motörhead. Албанский принц в изгнании Гарик Осипов, человек тысячи талантов, непревзойденный эрудит и эквилибрист словом.
Ходили активисты «КонтрКультУр’ы», этого рупора второй московской волны и глашатая провинции. Особенно Лёша Коблов. Рокеры-металлисты с боцманом хирурговских московских «Волков» Димой Саббатом во главе. Иногда забегал Саша Шварц, который жил на улице Горького в доме композиторов, почти напротив нынешнего магазина Бори Симонова «Трансильвания». Костя Божьев по прозвищу Прокурор с Джоником Кепкой, одним из самых стильных людей, которых я встречал. От него прямо веяло тем, что имели в виду в своих песнях Игги Поп и Лу Рид. Этакая испорченность. Но основной контингент состоял из вполне обычных граждан. При всей своей продвинутости клуб объединял, прежде всего, людей, занимающихся пластинками не только, вернее не столько для собственного удовольствия, сколько с вполне понятной коммерческой целью. Этакая помесь бани с блошиным рынком. И героями этого мирка были не артисты и мыслители, а вполне конкретные люди типа Сокола или Барабана, их можно было увидеть в магазине «Мелодия» всю неделю, несмотря на существование «Горбушки». Витькá Водопроводчика, любителя Яна Мэтьюза. Или Женю Полесского, поклонника и знатока британского фолк-рока, милейшего и слегка грустного человека; в период первых обменов с западными коллекционерами Женя нарисовал несколько обложек к нашим флекси* из «Кругозоров»*, и эти обложки до сих пор циркулируют по «Дискогсу» и «Ибэю». Или Петуха, вернее Миши Петухова, который был знаменит тем, что победил советскую систему правосудия в своем конкретном случае – он первым отправился на Запад, в сам Лондон, специально за пластинками, и открыл мне 13 Floor Elevators и Seed; он же первым наладил обмен советских пластинок с иностранцами. На него можно было орать последними словами, он никогда не выходил из себя и только близоруко улыбался в ответ… А также: Юру Гришина – переводчика с арабского и коллекционера Джимми Хендрикса, автора нескольких, прекрасно изданных и скомпилированных каталогов по британским лейблам; раблезиански гигантского Пашу по прозвищу Свинья; Вадика Малахова, битломана; Володю Ильинского, сына великого актера и тоже битломана; субтильного и высокого выпускника питерской мореходки Диму Нартова. Иногда захаживал наш бассист Пущ, или звукооператор Бабушка, особенно если у Лолиты была в этот день так называемая репетиция в пожалованном нам Тонкишом подвале ДК.


