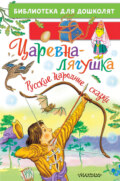Алексей Толстой
Повесть смутного времени
Народ московский глядел на эту потеху с обоих берегов, и на многих в тот день нашло сомнение: кого царём посадили? Не Гришка ли то Отрепьев, беглый холоп князей Ромодановских, глумится над русской землёй?
В мае месяце матушка моя собралась ехать в Москву. Её надоумили протопоп от Николая Чудотворца и толстая попадья: бить государю челом на деревнишке, – просить землишки, чёрных людишек и животов, и просить – сколько даст.
Собрали мы десять подвод – птицы, солонины, засолов, капусты квашеной, пирогов, полотна белёного. Мая двенадцатого числа отстояли молебен и тронулись. Матушка всю дорогу плакала, молилась, чтобы нам живыми доехать.
Въехали мы в Москву в обед, четырнадцатого мая, и стали в слободе на Никольском подворье, у Арбатских ворот. Пообедали. Матушка легла почивать, а я вышел на двор, где стояли воза. Сел на крылечко и гляжу. Въезжают на двор три казака, передний, смотрю, – Наум, я сразу его узнал, в чёрном добром кафтане, о сабле, и сам красный, злой, пьяный – едва сидит в седле.
– Эй, дьявол, – кричит Наум, – хозяин, пива!…
Баулин, коломенского кожевника Афанасия кум, нашего подворья хозяин, гладкий, лысый посадский, вышел. на крыльцо, улыбается: «Можно, казачки, – отвечает, – можно, любезные. Пиво у меня студёное, сытное, кому и пить, как не вам».
И сейчас же девка с бельмом выбегла со жбаном пива, поднесла Науму. Он сдвинул шапку, испил из жбана, от-дулся и слез с коня, – сел на брёвнышко у крыльца.
– Из димитриевых али за истинного царя? – спросил он у хозяина со злобой.
Баулин усмехается, поглаживает бороду:
– Мы люди посадские, – отвечает, – мы, как мир. Тот нам царь хорош, кто миру хорош. Наше дело торговое.
– Ах ты, сума перемётная, сукин ты сын! – говорит ему Наум. – Да разе Димитрий царь? Расстрига, польский ставленник, Отрепьев, самый вор последний. Он у Вишневецких в Самборе конюшни мёл. Я-то уж знаю, – я сам за него кровь проливал под Новгородом-Северским, когда били мы, казаки, князя Мстиславского, я. знамя взял… Я бы самого воеводу Мстиславского взял, да ушёл он в степь, – конь под ним был добрый, ах, конь!… Князя три раза я бил саблей по железному колпаку, всего окровавил… Господи прости, сколько мы русских людей побили!… А за что? Чтобы нас в Москве поляки бесчестили и лаяли… Пороху, свинца нам продавать не велят… Придёшь в кабак, из-за стола тебя выбивают вон… Ну, погоди!…
Наум стащил с себя шапку, бросил её под ноги и стал топтать:
– Мы знаем, за кем пойдём. Мы за веру постоим… Ни одного поляка живого из Москвы не выпустим!
– Будет тебе, Наум, нехорошо, – сказал ему Баулин, – поди на сеновал, отоспись.
– Нет, я не пьяный… А пьян – не от твоего вина… Подожди, подожди, – ужотка вам запустим ерша!…
Тут Наум схватил шапку, вздел ногу в стремя; конь его кинулся в сторону, Наум поскакал за ним на одной ноге, повалился брюхом в седло. Казаки заржали, и все трое выскочили, как без ума, из ворот, запустили вскачь по слободе к Воробьёвым горам, только пыль да куры полетели в сторону.