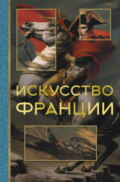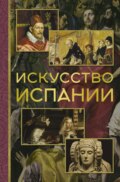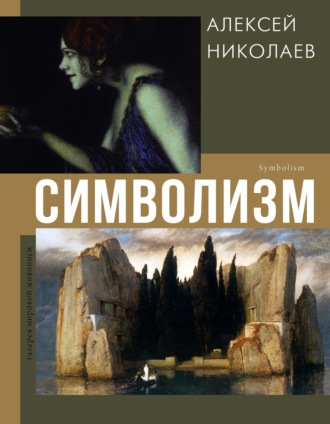
Алексей Николаев
Символизм
Нужно добавить, что сам Шаванн, выставив «Бедного рыбака» в 1881 году, хотел, чтобы картина рассматривалась исключительно с точки зрения ее содержания и отрицал наличие в ней символических трактовок. Этот подход оценили художники дивизионизма Жорж Сёра и Поль Синьяк, когда писали отстраненные полотна о городской жизни. С другой стороны, религиозный художник Морис Дени очень высоко оценивал «Бедного рыбака», очевидно, увидев в картине нечто большее, чем хотелось бы ее создателю.
«Если примитивы кажутся нам неуклюжими сравнительно с декораторами XVI века, то это не удивительно. Но не потому, что они неуклюжи и суховаты, а потому, что они истинны и просты».
Пюви де Шаванн
Спокойствием и благородством светится панно «Священная роща, возлюбленная музами и искусствами» (рис. 14). Работа может даже показаться излишне статичной. Даже летящие над рощей музы как будто замирают в воздухе. Но художник намеренно уходит от романтических аффектов, бурной стихии, а также драпировок в стиле XVI–XVII веков, пышных и переполненных воздухом. Создавая «Рощу», Шаванн ориентировался на итальянские фрески XV века, которые не так давно перестали рассматривать в качестве «примитивов», несовершенных образцов Возрождения.

Рис. 14. Священная роща, возлюбленная музами и искусствами, 1884. Музей изящных искусств Лиона, Лион, Франция

Рис. 15. Вооруженная богиня-покровительница города Парижа следит глазами за воздушным шаром (Варианты названий – Свободный дух, Воздушный шар), 1870. Музей Орсе, Париж, Франция

Рис. 16. Сюзанна Валадон, 1880. Частное собрание
Панно имело успех на Салоне 1884 года, но и подверглось критике. Прежде всего, картина была заказана республиканцами для идеологических целей, что вызвало естественное отторжение роялистов и части публики. Шаванн действительно выполнял государственные заказы, писал патриотические картины (рис. 15). Другая причина особенно интересна, но ее следует рассматривать как гипотезу. Шаванн не славился любовными похождениями, но в одно время встречался с самой Сюзанной Валадон (рис. 16) – музой импрессионистов и художницей постимпрессионизма. Она была натурщицей и для «Священной рощи» – все женские фигуры на панно написаны с нее. Впоследствии идиллические картины Валадон со стройными фигурами выдадут заметное влияние Шаванна. Факт отношений вполне мог привлечь внимание Анри де Тулуз-Лотрека (который встречался с Валадон в 1886–1888 годах) и побудить его написать свою пародию на «Рощу» (рис. 17). Картина изображает непочтительное вторжение дерзкого поколения художников в райские кущи. В пародии можно заметить самого Лотрека (себя он тоже не пощадил), он стоит спиной в группе на первом плане и, по всей видимости, совершает очень непочтительное деяние.

Рис. 17. Анри де Тулуз-Лотрек. Священная роща, 1884. Художественный музей Принстонского университета, Принстон, США
Отметим, что такое отношение не было повсеместным. К примеру, Эдгар Дега считал Шаванна непревзойденным мастером композиции: «Попробуйте хоть на один штрих, на один миллиметр сместить какую-нибудь фигуру, это совершенно немыслимо».
Для Шаванна было естественно предлагать античность не как пример, а как замену современности. Глядя на картину «Видение античности» (рис. 18), мы прикасаемся к мечте о Золотом веке, где нет места проблемам современности. В этом идеальном мире даже художники кажутся посторонними, если становятся наблюдателями жизни, отделяют себя от естественного хода событий. Это иллюстрирует панно «Между искусством и природой» 1888 года (рис. 19).
«Соблюдайте порядок во всем, что рисуете, – порядок математика в его расчетах».
Пюви де Шаванн

Рис. 18. Видение античности. Символ формы, 1889. Институт Карнеги, Питсбург, США

Рис. 19. Между искусством и природой, 1888. Музей изящных искусств в Руане, Руан, Франция
Примерно тогда же мы находим подтверждение живописи Шаванна в его характере. В 1889 году он посещает техническую выставку в Париже. Потрясенный грохотом машин в свете электричества, он восклицает: «Дети мои, нечего больше заниматься искусством! Разве может художник или поэт бороться с этой социальной мощью, с этим влиянием ее на воображение? Уйдем отсюда!» На следующий день он с горечью прибавляет: «Что сделает с нами, художниками, это вторжение инженеров и механиков?»
В 1890-х годах Шаванн много работает над украшением парижского Пантеона, усыпальницы для великих деятелей, оставивших след в истории Франции: здесь упокоены Вольтер, Гюго, Пьер и Мария Кюри и многие другие. Пантеон изначально строился как церковь святой Женевьевы, но завершение строительства совпало с французской революцией, назначение здания изменили, а мощи святой сожгли. Через сто лет увековечить ее память поручили Пюве де Шаванну, который уже работал над этой темой в цикле картин.
Особенно известны фреска «Святая Женевьева снабжает хлебом осажденный Париж» (рис. 20) и картина маслом «Святая Женевьева смотрит на спящий город Париж» (рис. 21). Действие фрески происходит в конце V века, когда Париж еще назывался Паризии, по племени кельтов, обретавшихся в тех местах (римляне называли город Лютеция Паризиорум или просто Лютеция). В Паризии случился голод, и Женевьева добыла зерно в отдаленном городе, пройдя по пути через множество опасностей. Зерно это она раздавала горожанам. Во время работы над фреской Шаванн специально сравнивал тона своей работы с цветом колонн, чтобы естественнее вписать ее в архитектуру. Картина же, где святая задумчиво смотрит на ночной город с высоты, стала подлинным шедевром Шаванна, его выходом к новому изобразительному языку, который, как мы увидим, еще проявит себя в искусстве символистов. Всегда избегавший насыщенных цветов, в этот раз художник подобрал глубокие оттенки синего, которые и по сей день завораживают тысячи и тысячи посетителей Пантеона.

Рис. 20. Святая Женевьева снабжает хлебом осажденный Париж, 1893–1898. Фреска в Пантеоне, Париж, Франция
© Reproduction Hervé Lewandowski / CMN

Рис. 21. Святая Женевьева смотрит на спящий город, 1898. Пантеон, Париж, Франция
Жизнь Шаванна похожа на высокую, крутую лестницу, поднимаясь по которой, он толику за толикой получал драгоценные крупицы земных и духовных богатств. Женился Шаванн только в 72 года на румынской принцессе Марии Николаевне Кантакузен (Кантакузино), которой тоже было глубоко за семьдесят. Интересно, что в этот самый момент к Шаванну приехал русский художник Виктор Борисов-Мусатов, надеясь стать его учеником: «Я все время боялся, – легкомысленно писал он матери, – что к моему приезду он возьмет да помрет, ведь ему уже за семьдесят. Но он сделал хуже – женился и перед свадьбой закрыл свое ателье». К сожалению, молодой художник оказался прозорлив. Через год после свадьбы Мария Кантакузен умерла, а тремя месяцами позднее, 24 октября 1898 года, ушел из жизни и сам Пюви де Шаванн.
Эта короткая и трогательная история любви дарит надежду, что на своем пути художник нашел то, что искал. Ведь любовь и счастье в живописи Шаванна неотделимы от душевного покоя. В этой идее прочитываются душевные склонности мастера, направившего всю силу своего упорства на поиски подлинной гармонии.
«Произведение рождается из своего рода смутной эмоции, в которой оно пребывает, как организм в зародыше. Эту мысль, которая кроется в эмоции, я постоянно обдумываю, прокручиваю в голове, пока она не прояснится и не предстанет перед моим взором во всей возможной чистоте. Тогда я ищу зрелище, которое станет ее точнейшим переводом… Если хотите, это и есть символизм».
Пюви де Шаванн