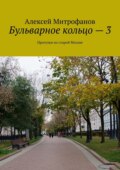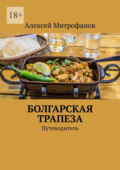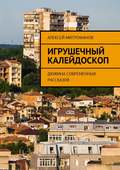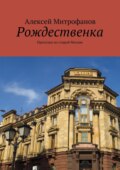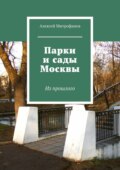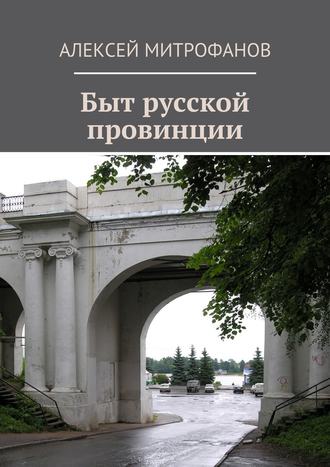
Алексей Митрофанов
Быт русской провинции
Некоторые особенно рачительные обыватели скупали, по возможности, соседские сады и создавали настоящие шедевры. Вот, например, описание «садика» Андрея Титова, предпринимателя, жителя Ростова Великого: «Как входишь – сразу бордюр из махровых левкоев, душистый табак, который распускался вечером с необыкновенным ароматом. Направо были розы на длинных грядках, эти розы из Франции выписывались… После роз был сиреневый кружок, диаметром 5 метров, небольшой, а в середине его лавочки. Дальше беседка очень красивая, большая, а в ней терраса, буфет с посудой (мы здесь пили чай), а далее еще беседка, ажурная, из длинных полос дерева, и в ней еще три лавочки.
В самом центре сада стоял фонтан, а в середине его – скульптура, ангел (мальчик с крылышками) с трубкой, из нее вода лилась, разбрызгиваясь.
Направо от нее яблони росли, сливы и другие фруктовые деревья. А пруд какой был! В нем рыбы плавали».
Такое предприятие могло дать фору и столичным увеселительным садам.
А уж праздники в частных садах – бесподобнейшее удовольствие. В одном из них, в Ростове-на-Дону состоялась свадьба физиолога Ивана Павлова и юной ростовчанки Серафимы Карчевской. Юная супруга вспоминала: «Что за чудный вечер был в день нашей свадьбы. Тихий, лунный, безоблачный! Садик, в который были открыты окна и двери, благоухал розами. Собрались только самые близкие наши друзья… В саду в беседке устроили танцы. Музыку изображал отец Киечки, ударяя ножом по бутылке, а все мы превесело танцевали. Никогда не забыть мне этого вечера. И Иван Петрович всегда вспоминал о нем с удовольствием».
Вроде бы ты и на улице – а все таки дома.
* * *
Но все выглядело по-другому, если в доме не было достатка. Путь в бедность часто начинался с малого – например, с принятия решения пустить к себе жильцов. Ярославец С. Дмитриев писал: «На имеющиеся у нас капиталы решено было приобрести две кушетки (кровати дороги!) – одну мне, другую квартиранту, – стульев, стол, посуды, самовар и тогда подыскать подходящую квартиру. «Пошла работа!»
Квартиру мать нашла быстро: на Нечете, в центре города, в мезонине. Дом этот и сейчас стоит, и проходя мимо него, я вспоминаю те годы, годы начала моей жизни, лучшие годы моей жизни.
На улицу выходила большая, в три окна, комната, во двор смотрело тоже три окна, но два в комнате, а одно в кухне; сняли дом за семь рублей в месяц со своими дровами и керосином.
Стулья и другую мелочь мать перетаскивала сама, а кушетки перетащить наняла зимогоров, всегда находящихся около мебельных магазинов в ожидании чего-нибудь снести и подзаработать.
Квартиру обставили, повесили иконы в углах, какие-то занавесочки на карнизах (окна были маленькие), но не ситцевые: мать, бывая часто у Разживиных и Огняновых, уже отвыкла от деревенских порядков.
На другой день мать приколотила на дверях, выходящих на улицу, записку: «Сдается комната со столом в мезонине». Вход с улицы был и в мезонин, и во второй этаж. Меня по целым дням дома не было, и мать сдавала комнату сама. Когда я пришел вечером со службы, мать сказала, что находится подходящий квартирант. Она просила его зайти завтра утром пораньше, чтобы я «поговорил с ним сам». А что я должен был говорить с ним сам, когда я в этом деле вполне ничего не понимал?
Но студент (квартирант) пришел около 8 часов утра – Сергей Павлович Нелидов (из Нижнего Новгорода), сын, не помню точно, директора или инспектора народных училищ Нижегородской губернии, приехал учиться в Ярославский юридический лицей… Студент Нелидов мне очень понравился, и мы его пустили в комнату, выходившую на улицу окнами. Условились за 20 рублей в месяц давать ему, кроме комнаты с нашими дровами и керосином, еще обед, ужин и два раза в день – утром и вечером – самовар. Чай и сахар его, стирка белья тоже его.
Я уже нагляделся у Огняновых кое-какому обращению с «господами», по выражению матери, и учил и показывал ей, матери, как нужно подавать кушанья, резать к столу хлеб и т. п.
Нелидов оказался человеком симпатичным и простым. По вечерам он не брал самовара, а приходил к нам пить чай. Сидел подолгу с нами, а потом уводил меня к себе, рассказывал, что у них семья большая: четыре брата, все учащиеся. Младший, Александр, неудачник, не хочет серьезно учиться в Кологриве Костромской губернии в земледельческом училище им. Чижова».
Вроде бы Дмитриевым повезло – жилец оказался приличный. Но все равно было нарушено уединение, прайваси – одна из главных ценностей провинциальной жизни. Кучкование – ценность столичная, там это – здорово, а в провинции – смерть.
В Уфе снимал квартиру будущая театральная звезда, Федор Шаляпин. Сам он об этом писал: «Жил я у прачки, в маленькой и грязной подвальной комнатке, окно которой выходило прямо на тротуар. На моем горизонте мелькали ноги прохожих и разгуливали озабоченные куры. Кровать мне заменяли деревянные козлы, на которых был постлан старый жидкий матрац, набитый не то соломой, не то сеном. Белья постельного что-то не припомню, но одеяло, из пестрых лоскутков сшитое, точно было. В углу комнаты на стенке висело кривое зеркальце, все оно было засижено мухами».
Впрочем, положение юного баса скрашивало то, что в Федора Ивановича влюбилась дочка прачки, «очень красивая, хотя и рябая». Она подкармливала бедного певца «какими-то особыми котлетами, которые буквально плавали в масле».
Впрочем, сдача и съемка жилья – вещь временная, оставляющая надежду на другую судьбу и на лучшее будущее. Страшнее, когда люди так живут всю свою жизнь. Современник писал о Самаре: «Если теперь заглянуть в жилища, то убедимся, что большинство маленьких квартир тесны, переполнены народом и содержатся очень грязно, на первом плане вонючая лохань, переполненная помоями, следующая комната – гостиная. В ней сборная мебель, косое зеркало, неизбежная вязаная салфетка на столе, и на ней всегда красуется изломанная грязная гребенка, которою все чешутся – и хозяева, и гости. Третья комната обыкновенно так называемый „мертвый угол“: это комнатка без окон, совершенно темная, глухая, заваленная хламом, в ней стоит деревянная кровать с пуховиками – это спальня».
Да, провинциальной идиллией здесь и не пахнет. Но ничего не поделаешь – огромная часть обитателей провинции жила именно так. Больше того, по мере наступления прогресса жизнь многих обывателей не улучшалась, как логично было бы предположить, а напротив, становилась хуже. И правда, одно дело – проживать почти что в девственном лесу, где все, что называется, стерильно, и совсем другое – сохранять здоровые условия существования среди «каменных джунглей», каковыми постепенно становились многие города, особенно промышленные. Взять, к примеру, Брянск. Городской фельдшер г-н Меримзон писал в 1878 году в тамошнюю управу: «При исполнении возложенных на меня обязанностей я бываю иногда поставлен в необходимость лечить тех больных, обстановка которых поистине ужасна. Сырая, тесная, нередко нетопленая квартира, неимение не только сколько-нибудь подходящей пищи, но и насущного хлеба; присмотра, столь необходимого условия при каком бы то ни было лечении, и того в большинстве случаев нет, так что приходится исполнять обязанности и фельдшера, и прислуги. Само собою разумеется, что при такой обстановке никакое лечение не может облегчить страданий бедняка. Если ко всему этому прибавить недостаток медикаментов, от которого, главным образом, страдают опять те же бедняки, не имеющие средств приобресть лекарства за своей счет, то это будет составлять понятие о трудностях лечения больных этого рода».
А вот запись окружного инженера 2 округа замосковских горных заводов К. Иордана в инспекторской книге Брянского завода об антигигиеническом состоянии жилищ рабочих: «Осмотрев 23 июня 1892 г. некоторые помещения для рабочих, устроенные при Брянском рельсопрокатном и механическом заводе, я нахожу, что они совершенно неудовлетворительны в гигиеническом и санитарном отношении. Помещения устроены по нескольким типам: для одного семейства, для двух и для артели рабочих. Все они отличаются друг от друга только размерами, условия же жизни всюду одинаковы и в громадном большинстве случаев не только не привлекательные, но и безусловно вредные. Скученность и теснота в помещениях настолько велики, что рабочие, чтобы вдыхать сколько-нибудь сносный воздух, прибегают к самопомощи, а именно, при всех казармах устраивают нечто вроде бараков из теса и горбылей, с просвечивающими стенами и кое-какой крышей, без окон…
Все здесь изложенное относится по преимуществу к жителям семейным, где по сознанию ли самих живущих, либо же по чувству самосохранения еще поддерживается кое – какая чистота и опрятность. Но в казармах для артелей рабочих тщетно было бы искать той и другой. Тут без всякого преувеличения можно лишь делать сравнения с помещениями для домашнего скота, до такой степени они своим неопрятным видом и грязью мало напоминают о жилье людей. Даже летом, когда окна и двери настежь открыты, воздух в них сперт и удушлив: по стенам, нарам, скамьям видны следы слизи и плесени, а полы едва заметны от налипшей на них грязи.»
Еще один крупный промышленный город – Ижевск: «О домашнем комфорте ижевский оружейник почти не имеет понятия. Некрашеный деревянный стол, два-три таких же стула и по стенкам лавки да еще угловой шкафчик для посуды составляют почти всю мебель… Кровать находится в редком доме, да ее и поставить было бы некуда… Спят обыкновенно на полатях или на печи, а если уж очень жарко, то на полу».
Словом, известный роман «Мать» Максима Горького написан был, по сути, на документальном материале.
* * *
Особняком же в отношении бытовой организации стояли маленькие города аграрного характера. Вроде бы уже деревня, но еще и не совсем город. Очень характерна в этом плане Суздаль – до революции он был известен не архитектурными шедеврами, а достижениями сельского хозяйства.
Да, город и впрямь имел характер очень даже необычный. Если из столиц (Владимира, Москвы и даже Петербурга) сюда все таки приезжали путешественники приобщиться к суздальским святыням, – то самих жителей эти святыни интересовали мало. Один из мемуаристов вспоминал: «Даже среди людей относительно образованных сведения о родном городе, его истории, отдельных лицах, ставших почему-либо известными, были очень скромными, а у подавляющего большинства и таких знаний не было. Например, у очень многих суздалян в так называемых „поминаньях“ были занесены на вечное поминовение имена митрополита Илариона, схимонахини Софии и других, а кто они были, когда жили, и какой след оставили в истории Суздаля, вряд ли кто знал достоверно».
Нонсенс, казалось бы, но ничего уж не поделаешь. Город и вправду был аграрным и преуспевал именно на этом поприще. «Под садами находится земли около 25 десятин, а под огородами – ок. 280 десятин. Только самые богатые жители города не имеют своих огородов или не обрабатывают их сами, а сдают в аренду другим. В садах разводится преимущественно яблонь (сорта: антоновка, анисовка, боровинка, зеленовка и апорт), потом вишня (родительская), из ягодных – смородина, кружовник и малина. В огородах по количеству насаждений первое место занимают хрен и лук, затем – огурцы, капуста, свекла, картофель и др. Все получаемое с садов и огородов, весом до 620.000 пуд., кроме капусты и картофеля, за исключением необходимого для собственного потребления, вывозится на продажу в соседние города и уезды (большая часть в гор. Иваново-Вознесенск), а лук и хрен в больших количествах идут в Москву с С.-Петербургом».
Именно сельское хозяйство составляло главный интерес жителей Суздаля. «Хрен да лук не выпускай из рук» – лишь один из образцов суздальского аграрного фольклора. Да и названия суздальских «предприятий» до чрезвычайности красноречивы – например, «хрено-толченые заводы».
В начале сезона, в апреле оживлялась жизнь города. На Хлебную площадь сходились из окрестных сел поденщики – так называемые «копали». Они подряжались копать многочисленные суздальские огороды. Притом цена зависела от трудоемкости работ, которая определялась тем, что именно предполагалось посадить. Для тех культур, которые требовали более тщательной обработки нанимались «копали» значительно дороже.
Затем «копали» уходили, и появлялась другая рабочая сила. Многие хозяева ни разу не притрагивались к собственным посевам – наемные специалисты и сажали, и растили, и собирали урожай. Находилось дело даже для старушек-инвалидок – они обрезали лук.
А в феврале городские власти объявляли нечто вроде тендера – жители город боролись за право прибрать к своим рукам навоз, который за зиму скопился на городских улицах и площадях.
Суздалянам был присущ творческий подход к своим посадкам. Например, в конце июля туристов сильно изумляли флаги, с непонятной целью вывешенные на некоторых огородах. некоторые были красными, иные белыми, а иной раз попадались и сшитые из трех полос – белой, синей и красной.
Это не имело никакого отношения к встрече представителей царской фамилии. Флаги вывешивались для детишек и обозначали, что горох созрел, и можно совершать набеги на его плантации. Жители справедливо рассуждали, что набеги эти будут все равно, так пусть хотя бы совершаются, когда гороху не так страшно помятие, как на начальных фазах созревания. Дети же знали: до развески флагов их накажут за набег, а после – нет и, соответственно, делали выводы.
Необычным был способ охраны садов от налетов злокозненных птиц. Для этого использовались «грохотушки». Их устанавливали на высокие шесты, а механизмы «грохотушек» с помощью веревок соединялись с будкой сторожа. Сторож время от времени дергал концы этих веревок, и жуткий грохот охранной системы разгонял всех пернатых налетчиков.
Естественно, что при такой ярко выраженной аграрной специфике (если не сказать аграрном культе) Суздаль сделался родиной ряда сельскохозяйственных изобретений. Например, штаб-лекарь Дмитрий Моренко еще в 1825 году изобрел здесь особенный способ изготовления цикорного кофе. До того корни цикория сильно пережигали и измалывали в порошок (так называемый ростовский способ). Доктор Моренко доказал, что лучше сначала мелко-намелко порезать корни, а затем слегка поджарить – так полезнее. Этот кофе получил название Моренкова или же Суздальского.
Так они и жили, суздаляне. С одной стороны взглянешь – вроде и ни богу свечка, и ни черту кочерга. А с другой – ведь тоже были счастливы своим суздальским счастьем.
Непростое хозяйство провинциального города
«Обедали мы во Владимире. Это очень недурной городок, и если судить по той улице, через которую мы проезжали, то – не хуже Нижнего; но кондуктор говорит, что только одна улица порядочная и есть во всем Владимире».
Это – критик Николай Добролюбов, о городе Владимире. Да, провинциальный город – не Москва, тем более, не Петербург. Улиц там, конечно, много, но жизнь, как правило, вращается вокруг одной из них. На нее, как на шампур, нанизаны главные городские достопримечательности – кафедральный собор, соборная площадь, торговые ряды, городская гимназия, здание присутственных мест, пожарная и полицейская часть, городской бульвар-парк. Именно здесь, на главной улице и происходит вся общественная жизнь. Именно на ней – лучшие магазины, лучшие гостиницы и самые роскошные дома. Да и названия у этой улицы, всегда красивые, нарядные – Садовая, Дворянская, Московская, Миллионная. Или Спасская, Всехсвятская, Троицкая – это уже в честь кафедрального собора, главного храма города.
Кажется, что эта улица должна быто такая же нарядная, парадная, ухоженная, как ее название. А вот и нет.
«Бесконечные прямые улицы во всю ширину загустели грязью. Лошади с трудом тащили экипаж. Даже на Главном проспекте – ни проехать, ни пройти. Чуть получше было возле громады кафедрального собора в центре, вокруг которого стояли красивые каменные здания, пестрели вывесками магазины. Но как только свернули в переулки, так опять лошади зашлепали по грязи».
Это описание города Екатеринбурга, вовсе не последнего по статусу и по богатству города России.
Главную улицу пытались украшать, облагораживать. Ну, например, мостить. И что же? Результат плачевный. Николай Лесков писал в романе «Некуда» о городе Орле: «Спокойное движение тарантаса по мягкой грунтовой дороге со въезда в Московские ворота губернского города вдруг заменилось несносным подкидыванием экипажа по широко разошедшимся, неровным плитам безобразнейшей мостовой».
А в Тамбове в середине девятнадцатого века вообще дерзнули укатать свою главную улицу в асфальт. Не всю, а для начала только тратуары. Но, как не трудно догадаться, ничего хорошего из этого не вышло. Вороватые и мало сведущие в тонкостях дорожых дел ремонтники, прежде чем положить асфальт, вытащили из земли булыжник. Асфальт плюхали прямо на грунт. Разумеется, спустя несколько месяцев, улица вновь нуждалась в «асфальтировании». А тамбовская газета сообщала в 1881 году: «Большая вполне оправдывает свое название: она длинна, достаточно широка и может похвастаться многочисленными приманками для пылкого юношества… если не принимать в счет благовидных тротуаров, идти по которым нужно осмотрительно, прибивать к штиблетам калоши, чтобы последние не остались в грязи, а в морозное время необходимо упражняться по законам равновесия, дабы сохранить в целостности затылок».
Подстать главной улице была и Соборная площадь. Газета «Рязанская жизнь» сообщала в начале двадцатого века: «Соборная площадь – место, предназначенное для поломки обывательских ног. Не ремонтировалась и не подметалась со времен татарского нашествия».
Правда, ближе к новому, двадцатому столетию за основные улицы провинциальных городов взялись всерьез. Литератор Н. Вирта писал о Тамбове: «Большая улица, самая длинная и чистая, застроенная казенными домами, была средоточием властей гражданских, военных и духовных. Все учреждения помещались на этой улице, а во дворе, близ кафедрального собора, жил губернатор. На той же улице в реальном училище, в гимназии и в духовных заведениях приобщали к наукам детей благородных лиц».
Как ни странно, там даже асфальт в конце концов прижился. Газета «Тамбовские отклики» сообщала в 1914 году: «Вчера начались работы по нивелированию Большой улицы, по окончании которых она будет залита горячим асфальтом. В некоторых местах срыто будет до аршина земли. Центр улицы, как известно, будет замощен булыжником, основанием для которого будет песок. Боковые же части будут заливаться раскаленным асфальтом на прочном бетонном основании. По условию с подрядчиком Пикулиным все работы должны быть закончены к 1 июля».
Одно лишь слово «нивелирование» здесь вызывает уважение и даже трепет.
Владимир Танеев писал в «Воспитании Шумского» про город Владимир: «Через весь город шла Дворянская улица, широкая, прямая, мощеная, с домами, редко где опороченными вывеской. В центре была обыкновенная большая площадь. На ней два древних собора, присутственные места, дворянское собрание, губернаторский дом. Бульвар из тенистых лип окружал площадь, шел к берегу и кончался у обрыва. Недалеко, на Дворянской улице, стоял Гостиный двор, с арками. Малолюдный, без обширной торговли, без фабрик, без увеселений, он считался одним из самых ничтожных губернских городов. Но на самом деле он был естественным, необходимым и полным жизни центром всей Опольщины. Жизнь кипела на базарной площади и около постоялых дворов».
Восхищался и П. Сумароков: «Поутру вступили мы в Кострому. Правильная улица довела нас до площади с пирамидою посереди, указали нам за нею гостиницу, и мы вкусно пообедали стерлядями. Строения благополучные, и на всех улицах хорошие мостовые, великая опрятность.
Площадь, о которой мы уже упомянули, окружена каменными лавками, каланча с фронтоном и колоннами легкой архитектуры занимает один ее бок, посреди стоит деревянный на время памятник с надписью «Площадь Сусанина». Площадь эта походит на распущенный веер, к ней прилегают 9 улиц, и при одной точке видишь все их притяжения. Мало таких приятных, веселых по наружности городов России. Кострома – как щеголевато одетая игрушка».
«Путеводитель по Волге» 1903 года писал о Саратове: «Немецкая улица самая шикарная и элегантная, с красивейшими домами и магазинами… Немецкая улица служит местом гуляний достаточных классов населения».
Другой же источник раскрывал эту мысль: «Разнообразные магазины идут от ее начала и до конца. Тут сгруппировалось все: магазины белья, портные, фотографы, сапожники, чайные и колониальные магазины, ювелиры, магазины мод, перчаточные, парфюмерные; тут же рестораны, большая гостиница бр. Гудковых, «Зимний сад» М. Корнеева, редакции и типографии двух газет, и проч. и проч.
Здесь постоянное движение экипажей и праздного люда. Особенно оживлена Немецкая улица после 4-х часов пополудни, когда обычная публика умножается любителями прогулки и катания. Вечером окна магазинов сияют огнями и сверкают своими блестящими выставками на окнах – и в это время улица действительно красива».
Историк А. Гациский восхищался главной площадью Нижнего Новгорода: «Благовещенская площадь, по своему очертанию, сильно напоминает место, занимаемое Дворцовой, Админиралтейской и Исакиевской площадями в Петербурге… роль Невы и набережной играет здесь кремлевская стена с бульваром, роль Главного штаба, соединения Невского с Гороховской, здания военного министерства и другие играют здесь духовная семинария, дома господ Волкова и Переплетчиковых, гимназия, почтовая контора, общественный дом, где помещается окружной суд, и, наконец, театр. В довершение сходства с площади идут радиусами три главных улицы: посередине, вместо Гороховой – Варварка, справа, вместо Вознесенского проспекта – Покровка, слева, вместо Невского – Тихоновская. Так как сравнивают адмиралтейскую часть с Римом, то, следовательно, с Благовещения и Нижний на Рим похож».
А улице Большой Садовой – главной улице Ростова-на-Дону – даже стихи посвящали:
Меж улиц, проулков великих и малых,
Широких и узких, мощеных и грязных…
Есть улица в городе нашем одна,
Садовой великой зовется она.
Однин из путешественников так писал о ней сто с лишнем лет тому назад: «Начало этой улицы очень непрезентабельно… но чем вы поднимаетесь выше, тем более ваше внимание привлекает красота и размеры домов, большинство которых только что с иголочки, блещут новизною, нарядностью и особенным, чисто местным стилем – смесью мавританского с обыкновенным нашим «губернским».
Город провинциальный – но при том торговый и богатый – прихорашивался. За ним тянулся и ближайший «младший брат» – уездный Таганрог. Инженер В. Соболев писал в начале прошлого столетия: «Внешний вид (Таганрога – АМ.) производит на всякого приезжающего хорошее впечатление благодаря правильной распланировки довольно широких улиц и переулков, которые в большинстве вымощены крепким песчаником с бордюрными камнями… С обеих сторон мостовых устроены очень густые аллеи из деревьев: тополей, канадского и пирамидального, и из белой акации. Эти аллеи представляют главнейшее украшение города».
Прятно выглядила и главная улица Самары. Изветсный общественный деятель Петр Алабин описывал ее взлет: «Причины быстрого роста и украшения Дворянской улицы, лет 15 назад состоящей из деревянных домишек и пустырей, во-первых, то обстоятельство, что в 1869 году местное начальство исходатайствовало запрещение постройки на ней деревянных домов и, во-вторых, то что на этой улице сосредоточилась торговля из магазинов и лавок города с колониальными, красными и галантерейными товарами. Дворянская улица сделалась сосредоточением торговли более изысканными средствами потребления.
Ее тротуары лучше, чем на других улицах, и сама улица содержится чище других. Только Дворянская улица сделалась любимым местом гульбища Самарского общества в зимний сезон, как Невский проспект в Петербурге».
Об этом «гульбище» «Самарский спутник» сообщал: «Часов с трех дня, в зимние праздники, здесь тянутся вереницы экипажей, нередко в таком количестве, что трудно бывает перебраться с одной стороны улицы на другую; по тротуарам масса самой разнообразной публики, начиная с привычного фланера и кончая вышедшим освежиться и посмотреть на людей трудовым человеком. Сила привычки велика, и потому на Дворянской улице можно встретить значительное число гуляющих и в летние вечера, тем более, что улица примыкает к главному месту летних гуляний – Струковскому саду. Одним словом, Дворянская улица может называться выставкой общественной жизни Самары».
Павел же Бажов писал о главной улице уже упоминавшегося Екатеринбурга: «Здесь с Уктусской улицы повернули на Главный проспект – лучшую часть города. Окрашенная в голубой цвет церковь, обнесенная довольно тесной оградой с чахлыми деревьями, не привлекла внимания. Церковь как церковь. Не лучше наших заводских. Но вот дом с лепными украшениями – это да! Ничего похожего не видывал. И вывески тут какие-то необыкновенные: «Жорж Блок», «Барон де Суконтен», «Швартэ», а сверху какой-то неведомый «Нотариус».
Сама по себе эта главная улица была непохожа на остальные. Посередине обсаженная деревьями дорожка для пешеходов.
В начале каждого квартала, у прохода на эту дорожку, с той и с другой стороны небольшие лавочки, около которых толпится народ. Пьют «кислые щи», «баварский квас», ребята отходят с разноцветными трубочками, в которых, как я вскоре узнал, продавался мак с сахаром. Маковушка стоила от одной до трех копеек. Около лавочек прохаживался или стоял городовой. Эти постовые набирались из внешне видных людей, и все четверо, которых я видел в тот день, показались огромными и страшными. На этой же части пути увидел вывеску: «Продажа металлов… графини Стенбокк-Фермор»».
Внешность же провинциальных жителей, выбравшихся на прогулку на главную улицу, тоже была феноменом. В частности, «Ярославские губернские ведомости» сообщали о жителях своего города: «Употребляемая жителями одежда обыкновенная, как и в других городах. Мужчины, почти все, одеваются летом в кафтаны, суконные и китайчатые, синие и других цветов, а зимой в шубы, полушубки и тулупы, крытые сукном, плисом, бумажною саржей и китайкой… подпоясываются более шелковыми, нежели каламенковыми кушаками; на голове носят летом поярковые и пуховые круглые шляпы, а зимой немецкие и русские шапки; на ногах – сапоги и валенки. В немецком платье ходят и бороды бреют немногие.
Женщины одеваются так же, более в русское платье. Обыкновенный наряд их в летнее время, по праздничным и воскресным дням, составляют юбки, называемые здесь полушубками, холодные епанечки (юбки и полушубки), обложенные по краям широким золотым и серебряным позументом, парчовые, шелковые, штофные, гарнитуровые, канаватные, тафтяные, ситцевые, выбойчатые и проч. … также кофточки, шугаи и черные салопы. Этот же наряд служит и зимою; сверх того употребляются тогда теплые парчевые, бархатные, штофные и других материй епанечки с фраком и по краям собольими, куньими и прочими опушками, так же коротенькие, гарнитуровые, шелковые и китайчатые шубки на заячьем и беличьем меху, с рукавами, с высоким назади перехватом или лифом и множеством частых боров и складок. На голове носят шелковые простые или шитые золотом и серебром платки, с такою же по краям бахромою. На шею надевают снизки из многих ниток жемчуга, иногда с разными каменьями, а при них еще снизку жемчужную же широкую для креста, а на руки зарукавные, простые или с каменьями. Рукава у рубашек батистовые или из тонкой кисеи, с кружевными манжетами, длиною только по локоть, но широкие и всегда накрахмаленные, чтобы были пушистые и не обминались. Обуваются в башмаки и полубашмаки».
Поверим автору в том, что одежда ярославцев была и вправду типовой, и воздержимся от описания гардероба жителей других российских городов.
* * *
Впрочем, столь радостно смотрелся только центр, только лишь главные улицы русской провинции. В общем же состояние провинциальных городов, увы, ни в какие ворота не лезло. Один из журналистов сообщал о состоянии тамбоских улиц: «При поездках в экипажах на самых бойких улицах седоку от толчков приходилось ежеминутно подпрыгивать в экипаже, рискуя откусить себе язык и подвергнуться другим неприятностям. Вследствие толчков на ухабах некоторым пассажирам доводится и совсем выскакивать из экипажей». Увы, Большая улица принадлежала именно к числу таких особо «бойких».
Публицист В. Я. Светлов писал в 1902 году о Таганроге: «Таганрог – очень неинтересный город для принужденных постоянно обитать в нем и, главным образом, неинтересный по климатическим условиям: жара в нем стоит неестественная, доходящая летом до 48 – 50 градусов, а холод зимою до 20 и больше… Таганрог производит на человека, попавшего в него в первый раз, странное и унылое впечатление выморочного города: улицы пустынны, как в Помпее, ставни у всех домов наглухо заперты…
С внешней стороны Таганрог довольно красив, главным образом, своей правильной планировкой, тенистыми бульварами, обсаженными белыми акациями, каштанами и платанами, опрятными каменными домиками в один редко в два этажа и кажущейся чистой, но именно только кажущейся. Не имея канализации, водопровода и стоков, город не может быть действительно чистым; в особенности отвратительно в нем содержание ассенизационного обоза, распространяющего по вечерам невероятное зловоние на улицах. Несчастные обыватели только что открыли ставни и окна, желая воспользоваться наступившей хотя бы относительной прохладой, как уже приходится закрывать окна, чтобы спастись от мчащегося с грохотом обоза».
В описании одной из улиц города Самары сообщалось: «По Саратовской улице вследствие сыпуче-песчаного грунта в летнее время нет никакой возможности ездить, особенно между Заводской и Москательной улицами, почему большая часть обывателей старается объезжать ее другими улицами… ибо в летнее время песок до того разрыхляется, что тяжелые пожарные снаряды уходят в него по ступицу».
Харьковский путешественник сетовал на грязь Ростова-на-Дону: «Для пыли при такой ширине улиц – широкий простор, а для мостовых – совершенная погибель, так как чем шире площадь замощения, тем труднее ее сохранить. Ширина улиц ведет к тому, что каждая улица замощена только по бокам… Пыль на середине ростовских улиц лежит в огромном количестве и последствием такой меры „благоразумной экономии“ является равномерное распределение этой ростовской лавы: – каждая улица засыпает прохожих пылью, так сказать, своего собственного приготовления… Улицы в Ростове поливаются, но поливных кранов там нет, а пользуются услугами знаменитой „пожарной бочки“, снабженной лейкою. Выходит очень комично. Необыкновенно пыльная, широчайшая улица поливается так, как узенькая аллейка в хорошо расчищенном английском садике. Такой способ поливки, понятно, не достигает своей прямой цели, а только составляет „статью“ в росписи городских расходов».