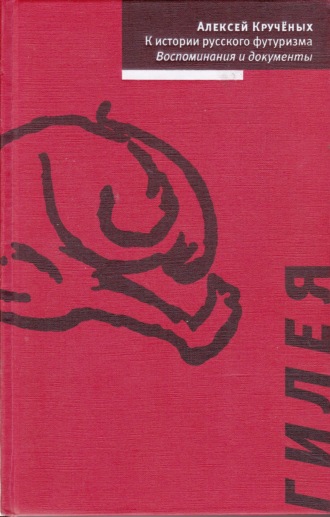
Алексей Крученых
К истории русского футуризма. Воспоминания и документы
Возможно, эта мрачная интонация показалось резкой; возможно, что просто не в характере автора было заканчивать на подобной ноте – во всяком случае, последняя глава о Маяковском и Пастернаке, в которой проскользнула надежда на “продолжение”, во многом меняет характер книги, делая ее откровенно полемической, “публицистически открытой”. В этой главе Крученых декларирует свою истинную позицию поэта, “занимающего крайний полюс литературной современности”40, столь же разительно расходящуюся с лефовской, что и позиция Пастернака. Хотя и придерживаясь концепции “литературы факта” (подчеркнутой в подзаголовке: “фактические справки по поводу”), он отграничивает себя от идей Маяковского периода сближения с РАППом о главенствующей роли идеологического содержания литературы как “агитпропа социалистического строительства”41, проскальзывавшими уже в лефовский период. Крученых, напротив, утверждает здесь “содержательность формы”, то, что именно форма может если не определить содержание, то повлиять на него, – идею, выраженную в словах Пастернака, обращенных к Крученых семью годами ранее: “Если положение о содержательности формы разгорячить до фанатического блеска, надо сказать, что ты содержательнее всех”42. Видимо, эта полемичность в немалой степени послужила причиной того, что в позднем сокращенном варианте воспоминаний (в который также не вошла библиография футуризма) Крученых исключил ее из рукописи. Пастернаковская тема продолжается в двух машинописных сборниках стихов 40-х гг., уже упомянутых нами. Бытовая конкретика времени перенесена в них в иное измерение литературной памяти и наделяется особыми качествами алогического бурлеска, а личность портретируемого – как и личность автора – превращается в прекрасно отыгранный персонаж. Эти стихи представляют лишь малую толику материалов Пастернака в архиве Крученых (всего же – более гооо листов рукописей, фотографий, писем, альбомов), но проливают новый свет на характер отношений двух поэтов. Наиболее значительные исследования и публикации, в которых так или иначе затрагивается эта тема43, свидетельствуют о гораздо более сложных и глубоких взаимоотношениях, нежели укрепившийся в критической литературе с конца 1970-х гг. штамп44.
Документальную ценность воспоминаний Крученых нельзя не признать очень высокой (вслед за многими современными исследователями футуризма – Харджиевым, Катаняном и др. – опиравшимися в своих работах на эти воспоминания и неоднократно цитировавшими их): пожалуй, из всех русских литературных мемуаров, связанных с новаторскими течениями XX в., которые опубликованы до настоящего времени, они менее всего предвзяты и наиболее многосторонни и точны. Их отличает от других воспоминаний и то, что с самого начала Крученых предполагал включить в качестве отдельных разделов книги (а не простого приложения!) публикацию неизданных документов и библиографию (на тот момент – первую библиографию русского футуризма), что выводило книгу за пределы чисто мемуарного жанра. В этом смысле название книги – “К истории русского футуризма” – целиком оправдано. Что же касается места воспоминаний в литературном наследии Крученых – его определить будет довольно сложно.
Во-первых, книга Крученых, несмотря на ее кажущуюся “традиционность” (особенно по сравнению с ранними статьями изобретателя заумного языка), экспериментальна в силу своей эклектичности. Она не принадлежит ни одному из известных литературных жанров, занимая маргинальное положение, размывая границы мемуарного жанра, художественной прозы, литературной критики, научно-популярной литературы. Во-вторых, уровень мастерства, с которым написаны разные главы, неравноценен. Если начальные главы воспоминаний (со 2-й по 5-ю), подчиненные хронологическому порядку, написаны в традициях мемуарной прозы, то в лучших главах воспоминаний, каковыми нам кажутся первая глава о Хлебникове и последние (двенадцатая и тринадцатая) главы о Маяковском, Крученых позволил себе изменить заранее намеченной “публицистичности” и “рассказу фактов”: в них проскальзывает парадоксальная, построенная на метафорике подсознательного стилистика критического анализа, свойственная раннему Крученых. Многие его тезисы о Маяковском были подхвачены в таких литературоведческих работах, как, например, исследование Харджиева и Тренина “Поэтическая культура Маяковского”45. Что касается наименее удачных глав – “Итоги первых лет” и, особенно, “В ногу с эпохой”, – нельзя не согласиться с оценкой Розмари Циглер, говорящей о “попытке соединить две разные точки зрения на культуру: взгляд авангардиста со взглядами вульгарно-марксистской культурной социологии и психологии своего времени… <у Крученых> проявляющейся в некоторых пародийных чертах”46. Крученых исправлял свою рукопись для печати в 1932 г., после многочисленных нападок на него в печати, после апрельского постановления ЦК ВКП(б) “О перестройке литературно-художественных организаций”: воспоминания, принятые к печати “Федерацией”, были его последней попыткой напечататься в государственных издательствах. Никак не проявлявший “политического” рвения в своей поэзии (“Трудно было заставить Крученых написать стихи о Руре”, – жаловался Маяковский в выступлении на первом московском совещании работников Лефа 16 и 17 января 1925 г.), в своих полемических высказываниях он все еще разделял (искренне ли?) позиции “лефовцев”, несмотря на резкую перемену в отношении к последнему Маяковского в самом конце 1920-х гг. объявившего себя “левее Лефа”47. Хотя Крученых в 1925-30 гг. “на словах” и поддерживал политическую линию Лефа, он никак не “перестраивал” собственную поэтику, в которой оставался независимым, сознательно предпочитая “литературу показа” любому “социальному заказу”.
Рассказ о футуристах в контексте освободительной борьбы пролетариата, да еще с позиции “участника” и “очевидца”, в устах Крученых, одного из самых “аполитичных” футуристов, всерьез подумывавшего об эмиграции в 1917-19 гг. в связи с приходом большевиков к власти, по меньшей мере нелеп48. Может быть, именно это сознание собственной нелепости заставляет его быть убедительным любой ценой, что в результате создает ощущение невольного гротеска, пародийности. Стилистически глава “В ногу с эпохой” – самая вымученная, неудачная глава: в сущности, компиляция. В “плакатном” стремлении убедить читателя в кровной связи кубофутуризма с революцией Крученых прямо следует тезисам статьи Маяковского “За что борется ЛЕФ”. Здесь же Крученых на скорую руку создает монтаж из цитат и текстов Каменского и Бурлюка, в частности, статьи Бурлюка “Красный Октябрь и предчувствия его в русской поэзии”49. Он даже не удосуживается подобрать нужные ему цитаты, почти полностью копируя их из Бурлюка. Так, например, Бурлюк цитирует Гиппиус со следующими комментариями: “Вот например как откликается на Октябрь Зинаида Гиппиус: (далее следует цитата. – Н.Г.)… Одна мысль о красном Октябре превращает поэтессу в тигру лютую, а злоба, видимо, дурной пособник вдохновенья, что и отразилось вплотную на ублюдистых стишонках”. У Крученых – точно та же цитата, и его комментарии почти дословно повторяют комментарии Бурлюка. Цитаты из стихотворений Каменского (“Ну раз еще сарынь на кичку” и “Пионерский марш”) Крученых заимствует из той же статьи.
Ответ на вопрос, почему Крученых прибегает к такой попытке, ясен. К 1932 г. поэт, о котором в 1929 г. Асеев в “Охоте на гиен” опубликовал следующие строки: “есть предметы для него безвкусные: общество, организованность, солидарность: они хранят для него деревянный вкус… он порвал со старым строем и не поверил в возможность существования нового”50, – должен был отбиваться от нападок со стороны уже не только газетной критики. Крученых не мог не понимать, что без “расстановки политических акцентов” в его рукописи о печати ее не может быть и речи51. Но не только это. Не стоит забывать, что Крученых, которого Владимир Марков точно охарактеризовал как поэта, наиболее независимого внутри группы кубофутуристов, но в то же время – наиболее преданного самому движению52, писал не автобиографию, а “книгу о футуризме”, “фактическую” историю футуризма, которой старался следовать объективно. С точки зрения социологии литературы и истории футуризма, эти главы представляют определенный интерес, так как в них более всего отразилась ситуация литературной политики тех лет и самый процесс создания весьма спорной версии об органическом продолжении ранней футуристической традиции в советский период в Лефе, конструктивизме и других течениях (в который были вовлечены тогда многие новаторы, начиная с лефовцев и Маяковского).
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. Давид Бурлюк (который в своих американских публикациях называл себя “отцом советского пролетарского футуризма”), Маяковский, Каменский сознательно заняли крайне консервативные пробольшевистские позиции, во многом изменив своим ранним анархическим идеалам в политике и эстетике. Крученых старается не исказить факты – в своей истории футуризма он постоянно опирается на документы и реальные тексты участников этого движения. “Пришел десять лет назад первый Октябрь! А теперь вот уже их декада! Позади. Необходимо подводить итоги! Надо будет это сделать литературно-художественным критикам и в области поэзии, равно во всех других областях науки”, – писал Бурлюк в своем альбоме “Десятый Октябрь”53. Другое дело, что их задачи, концепции и стилистика имели уже мало общего с идеей раннего кубофутуризма, а часто были просто противоположны.
В вышеупомянутых главах воспоминаний за всеми этими цитатами сам Крученых, – и связанная с именами Хлебникова, Гуро, Малевича, Матюшина, И. Зданевича иная линия раннего русского футуризма – практически исчезает. Тем не менее, в силу, возможно, той же самой приверженности факту и действительности, Крученых так никогда и не смог, несмотря на “наигранную бодрость” этих глав, изменить себе и своей концепции русского футуризма, сохранив за собой особенное положение “проклятого поэта”54 в искусстве и истории. Как только мы оставляем документально воссозданное и выверенное автором историческое пространство текста и вторгаемся в зону автобиографического пространства Крученых, где правит уже не факт, а метафора, ситуация меняется. Провести границу между фикцией, сочиненным анекдотом и действительным фактом, принадлежащим биографии поэта – будь то его ранние юношеские рассказы, письма к друзьям, автобиография или, например, медицинская справка о “нормальности”, вклеенная в домашний альбом – невозможно. Говоря о последней и зная любовь Крученых к мистификациям, за которыми всегда, тем не менее, что-то кроется, трудно утверждать, что заставило поэта заручиться у знакомого доктора-коллекционера этим “документом” и украсить им альбом, открытый для друзей и почитателей, а впоследствии предназначенный самим Крученых для архива. Возможно, это – саркастический выпад поэта против “славы”, прочно укрепившейся за футуристами после выхода книги доктора Е. Радина “Футуризм и безумие” (М., 1913).
Крученых и не старается дать своему читателю ключ – эта ситуация типична для стилистики Крученых позднего периода 1940-60-х гг., столь близкой постмодернистскому сознанию55; Крученых – балансирующего на границе жанров, стирающего привычные границы реальностей. Как-то Крученых признался в письме к Шемшурину: “Я дарю лишь набросок, но тут целая система, Кант с Милюковым. – Загадка… Читатель любопытен прежде всего и уверен, что заумное что-то значит, т. е. имеет некоторый логический смысл. Так что читателя как бы ловят на червяка – загадку, тайну… Сказать: люблю — это связывает и очень определенно, а человек никогда не хочет этого. Он скрытен, он жаден, он тайнотворец. И вот ищется вместо люблю другое равное и пожалуй сугубое – это и будет: ле фанте чиол или раз фаз чаз… хо-бо-ро мо-чо-ро = и мрачность, и нуль, и новое искусство! Намеренно ли художник укрывается в душе зауми – не знаю”56.
В поэтике Крученых – будь то “заметки на полях”, декларация о зауми, поэма или размышления о футуризме – событие творчества, по сути, намного важнее, чем само произведение, то есть конечный результат опыта, в его остановленной неизменной “вещности”; наоборот – бесконечное возвращение к футуристическому “прочитав – разорви!” В произведениях поэта, когда-то ответившего на вопрос что такое высшее счастье: “это когда в холодную ночь идешь и ищешь ночлега. Увидишь огонек, будешь долго стучать, но тебе не откроют и прогонят прочь”57, – отразилось то же независимое безжалостное стремление не останавливаться, оставаясь до абсурда верным анархической энергии противостояния своего пути.
Нина Гурьянова
I. Наш выход. К истории русского футуризма
(Воспоминания, материалы, библиография)
От автора
1932 год – дата, округляющая счет истории русского футуризма. Именно в этом году исполняется 20 лет со дня первых публичных выступлений будетлян (вечера, диспуты), 20 лет со дня выхода Маяковского на литературную трибуну, 20 лет со дня взлета первой моей книги, написанной совместно с В. Хлебниковым1, и 20 лет со дня написания первого грозно-будетлянского манифеста “Пощечина общественному вкусу” в книге того же названия.
Даты межевые. Пора оглянуться, напомнить кое о чем, подвести некоторые итоги!
В этом же 1932 г. исполнилась еще одна – на этот раз очень грустная – годовщина, именно: го лет со дня смерти одного из самых славных будетлян – Велимира Хлебникова.
Хотелось бы как-нибудь особенно отметить эту годовщину. В прессе были опубликованы неизданные стихи Хлебникова, факсимиле его рукописей, спешно готовится к выходу 5-й том собрания его сочинений2. Здесь же я хотел бы дать очерк, характеризующий литработу Хлебникова, и предпослать его всей книге, которая будет в дальнейшем посвящена преимущественно изображению литературного быта раннего футуризма (1912–1917 гг.), отошедшего уже в область истории.
При написании статьи руководили мною и такие соображения: Хлебников, один из родоначальников русского футуризма и сам по себе замечательный поэт, до последнего времени очень мало был известен широкой читающей публике, еще менее изучен литературоведами.
Творчеству Маяковского, например, посвящена масса статей, отдельных книг, устроен даже специальный музей, да и при жизни своей сам Маяковский выступал с многочисленными докладами, демонстрировал и разбирал свои произведения. В. Хлебников оставался в тени. Даже вещи его до сих пор еще не все собраны и изданы. Хлебников сейчас только начинается, а между тем прошло уже 10 лет со дня его смерти. Вот почему, я думаю, в эту годовщину вполне уместно начать книгу о русском футуризме именно с обзора творчества Велимира Хлебникова.
Для читателя, мало знакомого с произведениями футуристов вообще, а Хлебникова в частности, пусть эта глава послужит “вступительным словом” к дальнейшей демонстрации публичных выступлений и творчества футуристов.
Несколько слов о характере самих воспоминаний. В них, естественно, говорится о том, чему я сам был свидетелем, а в большинстве случаев и участником, причем меня интересовала по преимуществу магистраль русского футуризма, т. е. так называемый кубофутуризм, или будетлянство.
Все боковые линии и течения (эгофутуристы, “Мезонин поэзии”, “Центрифуга” и др.), по-моему, только излишне усложняют и затемняют основную линию русского футуризма. Исходя из этого, я буду касаться боковых течений только вскользь, когда без этого обойтись никак нельзя. (Например, моменты блокировки с эгофутуристами, “Мезонином” и т. п. для совместных публичных и печатных выступлений.)
Магистраль футуризма в дальнейшем, послереволюционном периоде вобрала в себя все наиболее интересное и жизненное из “Центрифуги” и “Мезонина” (к тому времени уже распавшихся группировок). Таковы, например, Н. Асеев и Б. Пастернак. Усиленная таким образом магистраль стала называться Лефом.
Естественно, лефовцы будут в орбите моей памяти при написании этой книги. Все остальное оставим профессионалам-историкам и регистраторам!3
Надо, однако, подчеркнуть: при всей субъективности в выборе материала он несомненно поможет читателю понять, каким образом шумное полустихийное движение, в безудержно-молодом задоре бунтарски ниспровергавшее вековые каноны и традиции академизма в искусстве, могло вылиться в одно из самых активных течений советской литературы.
Это сделали великие исторические события и рост самих будетлян.
Тут нет ничего неожиданного. На наших глазах своенравные воды порожистых рек волей и мастерством строителей направляются в строго расчисленные спиральные камеры гигантских турбин.
Но чахлую гнилую Неглинку брезгливо прячут в канализационные трубы.
Москва. Октябрь, 1932 г.
Велимир Хлебников
28 июня исполнилось го лет со дня смерти Велимира Хлебникова, и только теперь он становится известен широкому читателю. Недаром весной один красноармеец рассказывал мне:
– Пришлось брать отпуск и из Москвы ехать в Тверь. Сказали, что там еще есть в продаже первый том стихотворений Хлебникова. Редкий случай!
Первые тома Хлебникова давно раскуплены. Они стали библиографической редкостью.
Если бы Хлебников дожил до этого – как бы гордился, как бы по-детски был счастлив!..
Чем же привлекают к себе эти книги современного читателя? Почему до революции произведения его казались такими необычными, что печатать их “рисковали” только его близкие друзья и футуристы?
Причина простая: талант Хлебникова – талант новатора и революционера как слова, так и литературных приемов, шел по совершенно новому руслу, и появление его на фоне эпохи литературного блуда 1907–1910 гг. не могло быть оценено тогдашними бульварно-санинскими и эстетно-аполлонствующими кругами1.
Теперь произведения Хлебникова, не полностью еще собранные, появились перед революционно-пролетарским читателем. И уже явственно, что поэт, раньше понятый лишь небольшим кружком друзей нового слова, становится достоянием широкой аудитории.
По произведениям Хлебникова еще долго будут учиться исключительно разработанной технике звукописьма, стихо-механике, где тончайшие части выверены, пригнаны, где детализовано малейшее движение звукообраза.
…Дышит небу диким стадом
Что восходит звука атом!..2
Отметим некоторые отличия поэтической речи Хлебникова от рутинной речи поэтов, тянущихся в “классики”.
1) Ритм.
До Хлебникова ритм стихов напоминал томное колебание качалки в гостиной – такое укачивание стихом довели до предела Бальмонт и Северянин.
Канонизированные размеры строф, а иногда даже целых стихотворений (сонет, триолет и т. п.) связывали поэтическое слово благополучным однообразием колыхания. Читатель заранее знал, что поэт, начавший стихотворение энно-стопным ямбом, таким же ямбом его и окончит. Это уже как бы вошло в литературную традицию начала XX века. Если и шли споры, то лишь о количестве и законности полуударений в стопе (см., напр., толстотомные исследования А. Белого).
Ритм Хлебникова отличается неожиданностью ходов и поворотов. Читатель словно оказывается в новом заповеднике и не знает, что его ждет на повороте. Если признать, что ритм в значительнейшей части определяется соотношением метрических единиц (стоп), то ритмический рисунок Хлебникова неожидан и асимметричен, в противоположность ритмическому рисунку классиков, где стихи напоминают ряд спичечных коробок. Ломаностью и асимметрией ритма Хлебников выделяется даже среди футуристов. Возьмем начало одного из первых стихотворений его “Трущобы”:
Были наполнены звуком трущобы
Лес и звенел и стонал,
Чтобы
Зверя охотник копьем доканал.3
Здесь перебои ритма вполне оправданы. В трущобах мчатся всадники, на каждом шагу их ждет неожиданность. Словом “чтобы” Хлебников переламывает строку. Как на охоте, когда внезапно приходится становиться бок о бок со зверем, так и поэт, точно всадник, стягивая узду, находчиво сокращает число стоп стиха.
Еще динамичнее ритм Хлебникова в позднейших вещах.
Вот, например, строки из “Ночного обыска”, где каждая фраза как приказ, как восклицание. Быстрый и отрывистый стих вполне совпадает со словарем и достигает наибольшей выразительности и свободы:
– На изготовку!
Бери винтовку!
Топай, братва
Направо, 38.
Сильней дергай!
– Есть!4
2) Инструментовка и рифма.
Можно насчитать несколько сотен новых и мощных рифм, внесенных Хлебниковым в русскую поэзию.
Рассматривая рифмы Хлебникова, зачастую находишь в них всю образную, сюжетную значимость строфы.
Однако главная забота поэта – подготовить рифму инструментовкой стиха. Парные строки строятся на произносительном (артикуляционном) подобии, и посторонние звуки, мешающие данной артикуляции, не могут и не должны входить в строку. Хлебников помещал в рифму самые ударные слова, но рифма, конечно, предопределялась всей строкой.
Волге долго не молчится.
Ей ворчится, как волчице.
Волны Волги точно волки
Ветер бешеной погоды
Вьется шелковый лоскут
И у Волги, у голодной
Слюни голода текут.
(“Уструг Разина”, 1920-21)5
Отрывок инструментован на звуках в-о-л-к, которые, повторяясь в семи коротких строках, двадцать раз разнообразятся звуковыми аккордами “вол-ворч-од-долг” и т. д.
В первых двух строках даны, кроме ударной, две внутренние полновесные рифмы – Волге-долго, ворчится-волчице и т. д. В третьей начальная рифма – волны Волги.
Созвучия, таким образом подобранные, дают предельную инструментовку переливов и рокота грозной волны.
Бушующая дикая Волга ни разу не ослабевает и не сбивается в чуждый звукоряд – весь отрывок в ударных местах построен на основной мелодии гласных о-о-о-у (вой-ропот-гул).
3) Образность речи.
Образы Хлебникова ярки и неожиданны, идут вразрез со стандартом. Вот, например, разоблаченная чайка и, попутно, меткая характеристика международных хищников-спекулянтов.
Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками глазом, имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду.
(“Зверинец”, 1909 г.)6
Иногда это ряд образов, неразрывно между собой связанных и влекущих друг друга:
Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам подписью узника7.
Но некоторые образы Хлебникова кажутся сперва похожими на загадку, кажется – поэт начудил.
Олень – испуг, цветущий широким камнем.
(“Зверинец”)8
Разгадка простая: олень – сама чуткость, весь насторожившийся, легкий, он в то же время придавлен тяжестью ветвистых рогов – как бы цветущим (замшелым?) камнем.
Особую категорию представляют словообразы Хлебникова.
Вселенночку зовут мирея полудети
И умиратище клянут.
(Из его поэмы 1912 г. “Революция”. По цензурным условиям была названа “Война-смерть”)9
“Мирея” – динамичное слово взамен фразы: “растворяясь в мировом”. “Умиратище” дает образ чудища, несущего смерть, и т. д.
Впрочем, классификация образов Хлебникова требует специального исследования.
4) Также вскользь скажем о словоновшествах Хлебникова, которые он вводил всегда очень обдуманно и намеренно и “расшифровка” которых требует обширных теоретических исследований.
Правда, некоторые его словоновшества уже как будто привились. Общеизвестно, например, его “Заклятие смехом”, все состоящее из одного только слова и производных от него.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно.
О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных
смехачей!
и т. д.10
Хлебников показал здесь большое чутье языка, прекрасное знание приставок и суффиксов, ритмическую виртуозность.
“Смехачи” так поразили, что некоторые критики еще в 1913 г. предлагали за одну эту вещь поставить памятник Велимиру Хлебникову – “освободителю стиха”, а в наше время (в 1927-28 гг.) существовал даже юмористический журнал под хлебниковским названием “Смехач”.
Велимир создал десятки тысяч новых речений. От одного глагола “любить” он произвел около тысячи слов. Он написал специальный доклад о новых “летных” словах (на потребу авиации), основал теорию “внутреннего склонения слов” и т. д.
Как-то ночью, проходя с друзьями по улице и взглянув на небо, он начал называть все созвездия их древнеславянскими именами!
В литературу Хлебников пришел от занятий по филологии, философии, естествознанию, математике и этих занятий не оставлял.
Я – Разин со знаменем Лобачевского.11
Хлебников подчеркивал эту аналогию, ставя себя под знамя знаменитого ученого, создавшего новую геометрию. Друзья вспоминают, как изумлял их Хлебников широкой ученостью, например, говоря о возможности влияния китайской, японской, индийской и монгольской линии на русскую поэзию и давая обобщенные характеристики поэзии всех этих народов. Оперировать “народами и государствами” было обычным занятием Хлебникова, а его мечта – стать “председателем земного шара”, потому что всю жизнь он боролся за уничтожение государств, ограниченных пространством12.
* * *
Темы произведений Хлебникова разнообразны – зоологическая жизнь (“Зверинец”, “И и Э”), сельские идиллии (“Вила и леший”, “Сельская очарованность” и др.), фантастика (пьесы: “Мирсконца”, “Чортик”, “Пружина чахотки” и др.), быт будущих веков (“Радио”, “Дома и мы”, “Лебедия будущего” и т. д.)13.
Если определить темы Хлебникова схематично, это – природа – город – будущее.
Но больше всего он любил говорить и писать о войне. Одна из первых больших вещей Хлебникова “Учитель и ученик” – разговор о судьбах и битвах народов14. В 1915 г. он выпустил книгу “Новое учение о войне”. В течение десяти лет (1912-22 гг.) Хлебников произвел колоссальное количество математических и историко-хронологических выкладок, пытаясь установить “закон повторяемости войн” – ритм мировых битв15.
Общий его взгляд на войну таков: война государств – национальна, война должна быть, если народ этого хочет, но удар должен направляться не против соседнего народа, а против его дурного правительства.
Долой Габсбургов, узду Гогенцоллернам!
Сам он мечтал быть на поле брани. Утверждал, что у него “костяк воина”, что, надевая шлем, он делается похож на “воина средних веков”17.
В 1916 г. Хлебников живет в Москве и задумывает организацию “государства времени”, куда, подобно платоновскому государству ученых, должны входить лучшие люди эпохи – революционеры, поэты, ученые – “председатели земного шара”, числом 317 человек.
Весною 1916 г. Хлебников поехал в Астрахань, где был призван на военную службу и отправлен в 93-й запасный полк, стоявший в Царицыне (ныне Сталинграде). Но ярмо империалистической военщины показалось ему “казнью и утонченной пыткой”, как он писал Н.И. Кульбину, прося освободить от ужасающей обстановки лазарета “чесоточной команды”.
Вот как он описывает себя в положении царского солдата:
Ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов, а в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание; где ударом в подбородок заставляли меня и многих товарищей держать голову и смотреть веселей18.
И Хлебников возненавидел эту армию, подготовляемую для бессмысленной бойни.
Где как волосы девицыны
Плещут реки там в Царицыне,
Для неведомой судьбы, для неведомого боя,
Нагибалися дубы нам ненужной тетивою.
В пеший полк 93-й
Я погиб, как гибнут дети.
(См. “Неизданный Хлебников”. Вып. 1–2)19
С этого момента Хлебникову особенно отвратительной стала империалистическая война, и он бросил в лицо ей несколько песен-проклятий. Большинство этих в свое время напечатанных стихов Хлебников смонтировал после в поэму “Война в мышеловке”.
В 1920 г., говоря о войне, он видит крах капитализма:
В последний раз над градом Круппа
Костями мертвых войск шурша,
Носилась золотого трупа
Везде проклятая душа.
(С “Ладомир”)20
Работая в бакинской “Росте”, в 1921 г. Хлебников в стихотворении, выросшем из плакатных работ, подчеркивает классовые тенденции белогвардейщины:
От зари и до ночи
Вяжет Врангель онучи,
Собирается в поход
Защищать царев доход.
Чтоб как ранее жирели
Купцов шеи без труда,
А купчих без ожерелий
Не видали б никогда.
Чтоб жилось бы им как прежде,
Так, чтоб ни в одном глазу,
Чтобы царь, высок в надежде,
Осушал бы им слезу.
Небоскребы, как грибы,
Чтоб росли бы на Пречистенке,
А рабочие гробы
Принимал священник чистенький21.
Если до 1916 г. Хлебников писал “о войне и России”, то после 1916 г. он говорит о войне и революции.
Он искренно принял Октябрь как событие давно ожидавшееся и закономерное. Еще в 1913 г., в статье “Учитель и ученик” (сборник № 3 “Союз молодежи”), он писал: “Не следует ли ждать в 1917 г. падения государства?”22
В начале 1917 г., освободившись от военной службы, он вернулся в Петроград, проявляя ко всему происходившему громадный интерес и участие, появляясь совершенно спокойно в разгар уличных боев и стрельбы. Позднее он пишет “Октябрь на Неве”. Вот отрывок, рисующий тогдашнюю столицу:
…“Аврора” молчаливо стояла на Неве против дворца, и длинная пушка, наведенная на него, походила на чугунный неподвижный взгляд – взор морского чудовища. Про Керенского рассказывали, что он бежал в одежде сестры милосердия и что его храбро защищали воинственные девицы Петрограда, его последняя охрана. (Удалось напророчить, называя его ранее Александрой Федоровной!) У разведенных мостов горели костры, охраняемые сторожами в огромных тулупах; в козлы были составлены ружья, и беззвучно проходили черные густые ряды моряков, неразличимых ночью, только видно было, как колебались ластовицы…23
Через несколько дней он выехал в Москву. В дальнейшей записи читаем:
Совсем не так было в Москве. Мы выдержали недельную осаду. Ночевали, сидя за столом, положив головы на руки на Казанском (вокзале. —А.К.). Днем попадали под обстрел на Трубной и Мясницкой…24
В революционные годы Хлебников в некоторых произведениях тематически и стилистически близок Некрасову. Например, в поэме “Ночь перед Советами” рассказывается, как помещик, злой собачар, заставлял свою крепостную выкармливать грудью борзого щенка и лишь остатками молока кормить своего ребенка. Внучка этой крепостной, дожившая до революции, – главное действующее лицо поэмы – вспоминает самоуправство помещика, засекшего до чахотки “молочного брата” собаки “Летай-Кабыздоха”, мальчика, дерзнувшего разделаться по-мужицки с непрошенной “родней”.
Утром барин встает,
А на дворе – вой.
Смотрит – пес любимый
Висит как живой
Крутится.
Машет лапой.
Как осерчал,
Да железной палкой в пол застучал:
– Гайдук! Эй!
Плетей!
Да плетьми, да плетьми
Так и папаню засек до чахотки
Красный кашель пошел! На скамье лежит —
В гробу лежат краше!..25
В поэме “Ночной обыск” дается эпизод первых дней Октября: революционеры-моряки ищут спрятавшихся белогвардейцев.




