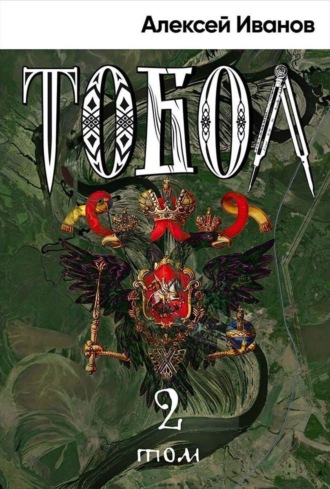
Алексей Иванов
Тобол. Том 2. Мало избранных
Глава 5
Уходящие
Ещё не поздно было сделать так, чтобы никакой войны со степняками не случилось. Китайская пайцза ещё висела у Матвея Петровича на груди под камзолом и пышным кружевным бантом. Князь широко крестился, стоя в толпе посреди Софийского собора, и разглядывал образа на многоярусном иконостасе, резном и раззолоченном. Матвей Петрович хотел понять, что думает о его замысле святая православная сила. Склонённые головы, нимбы, бестелесные руки, ниспадающие одеяния, крылья, кресты, книги, облака…
– И якоже рабу Твоему Товии Ангела хранителя и наставника поели, – гулко и протяжно пел дьякон, – сохраняюща и избавляюща их от всякаго злаго обстояния видимых и невидимых врагов и ко исполнению заповедей Твоих наставляюща, мирно же, и благополучно, и здраво препровождающа, и паки цело и безмятежно возвращающа…
На службу по уходящим воинам в собор набилась толпа тоболяков: чиновники губернской канцелярии, купцы, иеромонахи Софийского двора, офицеры Бухгольца. Сам Бухгольц, держа на согнутой руке треуголку, чётко печатал толстыми пальцами крестные знамения и шептал слова молитв так тщательно, будто повторял какую-то воинскую инструкцию. Ослабевший от болезней митрополит Иоанн уже не мог участвовать в литургии и сидел в креслице. Ремезов стоял где-то сбоку, опираясь на руку жены, бормотал и кланялся невпопад: терзаясь по сыну, он молился своим порядком. Голоса дьякона и певчих взлетали под высокие своды собора. В открытые окна косо били лучи солнца. Тяжёлые железные паникадила висели над толпой на цепях и наводили Матвея Петровича на недобрые мысли о терновых венцах.
Матвей Петрович мысленно проверял готовность войска к походу. Полторы тысячи рекрутов, бывшие служилые Чередова, охочие люди и шведы – всего же почти три тысячи солдат. Оружие. Порох. Пули. Кремни и пружины. Наждаки. Свечи. Походная кузня. Винты. Гвозди. Четырнадцать пушек, отлитых в Каменском заводе тюменским мастером Елизаркой Колокольниковым. Лафеты. Запасные железные шины. Запасные гандшпиги. Ядра. Ручные ядра. Фитили. Картечь. Запальные трубки. Клинья. Крючья. Коломазь. Ерши. Барабаны. Гобои. Амуниция. Ремни. Башмаки. Епанчи. Походная швальня. Кошмы и войлоки. Проволока. Щёлок. Холсты. Котлы. Солонина. Сухари. Мука. Сало. Водка. Тысяча лошадей отсюда и полторы тысячи в Таре. Хомуты и сбруи. Подковы. Сёдла. Попоны. Фураж. Тридцать два дощаника и двадцать семь лодок. Смола. Конопать. Верёвки. Уключины. Парусина. Скобы. Снасти. Плотницкий инструмент. Топоры… Припасы уже пересмотрены и пересчитаны по десять раз. Всего должно хватить.
Матвей Петрович потратил на войско немало сил и немало денег. Он старался всё сделать честно и добротно. И ему не в чем себя упрекнуть. Его совесть должна быть спокойна. Война – солдатская работа. А он обеспечил солдат и оружием, и провиантом, чтобы работали хорошо. Себе ни гроша не взял и другим брать не позволял. Пусть войско идёт в степь и побеждает. И всем тогда будет польза: и солдатам, и державе, и губернатору. Он, князь Гагарин, молится за своих солдат и просит для них только блага. Только вот ещё надо дать в собор новый вклад – икону Георгия Победоносца. В золоте.
Владыка Иоанн видел, что Матвей Петрович опять что-то придумал, опять затеял какую-то корыстную хитрость и сейчас расписывает господу её достоинства, будто ушлый ярмарочный торговец расхваливает доверчивому покупателю свой дрянной и порченый товар. Но митрополиту уже были безразличны грехи губернатора. Его тяготили мысли о земном, тяготило своё немощное тело, тяготил тварный мир. Этот мир стал прозрачен для Иоанна. Здесь всё толстое, грубое и неуклюжее. Понятны все страхи, желания, уловки и надежды людские. В душе владыки не осталось ни гнева, ни сочувствия – лишь тихое терпеливое ожидание, когда же, наконец, он сам станет таким же безмятежным светом, как тот, что вкось бьёт из окон собора на аналой.
Отчуждение не было смертью духа. Наоборот, дух обретал истинную небесную природу, и движение человеческой жизни проходило сквозь него, словно сквозь воздух. Теперь Иоанн постиг отшельников, которые в тесных пещерах под Киевской лаврой укладывались в гробы и просто лежали в темноте и немоте, не отзываясь ни на что. Теперь и он обрёл этот дар. Всё к тому и шло – шло с тех давних дней в Чернигове и Глухове, когда его душа надломилась страхом перед царём, а ныне безвозвратно отделилась от мира.
Иоанн слушал слова литургии: старинные, вычурные, тяжеловесные… Мало кто может изъясняться оной речью и ведать её смысл. Иоанн смотрел на высокую стену иконостаса: пёстрые картины совсем не похожи на то, что видят очи, ибо се – тайные означения, символы, иносказания… Но всё какое-то детское, рукотворное, нелепое… Многосложное искажение в мучительном поиске подобия божьему мироустройству. А ему той искусной премудрости теперь уже не надобно. Он и так понимает. Он преображён больной, вещей прозорливостью, будто на него снизошла благодать, но без всякой радости.
Служба в соборе завершилась, дьякон пропел «аллилуйю», и люди, отдуваясь от духоты храма, повалили наружу, на площадь. А площадь была запружена толпой. Казалось, что здесь собрался весь Тобольск. Звенели колокола. Вдоль куполов и шатров башен носились всполошённые стрижи. Синее июньское небо сияло. Толпа расступалась перед губернатором и чиновниками, и взору Матвея Петровича наконец открылось выстроенное в ряд войско Бухгольца: оба полка, Московский и Санкт-Петербургский, шведский шквадрон, артиллерийская команда и обозная часть. Бухгольц шёл вслед за Гагариным и заметил, что губернатор даже слегка оторопел.
Драгуны в синих мундирах с позументом, с бахромой на шляпах, в ботфортах с клюшами и шпорами, а на ремнях – палаши и пистолеты. Офицеры в париках и треуголках с пряжкой, с медными горжетами на груди, с шарфами на поясе и в ботфортах с крагами. Солдаты-фузилёры с косицами, все в зелёных кафтанах с деревянными пуговицами, обтянутыми полотном, в кюлотах и белых чулках; кожаные перевязи натёрты мелом; на плечах – ружья, сбоку – подсумки, на ногах – тупые башмаки со стоячими языками. Гренадеры в высоких шапках-«стрюках», с пышными шейными платками и обшлагами в раструб; полы камзолов подвёрнуты вверх исподом; от плеч до бёдер – портупеи-панталеры с лядунками и гранатными кобурами. Канониры и бомбардиры при дюжине гаубиц и двух мортирах – они в красном и чёрном, что означает дым и пламя. Прапорщики с разноцветными знамёнами. Флейтисты с гарусными кистями на плечах, а у барабанщиков барабанные чехлы обшиты галунами. Ездовые и обозные – карпусы на головах и ранцы за спинами. Тобольск никогда не видел такого большого и нарядного войска.
– Сила, брат! – оглядываясь на Бухгольца, с чувством сказал Гагарин.
Семён Ульянович, волнуясь, вытягивал шею, выискивая в солдатском строю Петьку, не нашёл и в досаде пихнул кого-то: ведь Петька должен быть такой бравый и красивый, а его засунули куда-то в задние шеренги!
– Головы обнажить! – выходя вперёд, скомандовал Бухгольц.
Солдаты и драгуны одинаковым заученным движением сняли шапки.
К началу строя уже подводили митрополита Иоанна. Владыка опирался на архиерейский посох, под навершием повязанный парчовыми платками, но сзади следовал верный Николка, готовый сразу подхватить Иоанна, если тот пошатнётся. Другой монах нёс перед владыкой чашу-кропильницу, в которой под ярким солнцем искрила святая вода. Владыка медленно окунал в чашу кисть-кропило, медленно поднимал руку и с усилием крест-накрест махал кистью на солдат, благословляя на воинский поход.
– Храни господь, – тихо говорил он. – Храни господь. Храни господь.
Он не смотрел, куда опускает кропило, – монах сам ловил чашей кисть, – он смотрел на солдат. Совсем молодые мужики и парни, все безбородые, кто с усами, кто безусый, белобрысые, рыжие, чернявые, красивые и некрасивые, хитрые и простодушные, умные и глупые, работящие и бездельники, хмурые и лёгкие нравом… Все они одинаково испуганно жмурились, словно дети, когда на их лбы и скулы падали капли святой воды. В безоблачном небе, ликуя, горело солнце, но владыке вдруг показалось, что на лица солдат надвигается какая-то глубокая мрачная тень. И лица жутко преображались: становились бледными и ангельски прекрасными, но глаза меркли и тонули в холодной синеве. Иоанн понял, что для него, подошедшего к пределу своей жизни, смерть сняла с бытия печать тайны, и теперь он увидел тех, кто не вернётся из похода. Будущие мертвецы составляли почти всю шеренгу.
Иоанн пошатнулся, и Николка сразу подхватил его, не давая упасть. К владыке побежали другие монахи. Кто-то вынул кропило из ослабевшей руки Иоанна. Солдаты, не двигаясь, испуганно смотрели на митрополита.
– Переживает за вас владыка, – торопливо пояснил монах с кропилом, успокаивая солдат. – Я довершу благословение, братцы.
– Дурной знак, Иван Митрич, – шепнул Бухгольцу майор Шторбен.
– Предрассудки, сударь, – сухо ответил Бухгольц.
Матвей Петрович в смущении потрогал бант.
– Плох владыка, – с сочувствием тихо сказал он.
Благословение довершили, солдаты перекрестились на главы собора и надели шапки, а потом командиры колоннами повели их вниз по Прямскому взвозу к пристаням, где войско ожидали уже загруженные суда. Вслед за колоннами толпа потекла с Верхнего посада на Нижний.
Десятки дощаников и больших лодок-набойниц стояли у причалов или просто на мелководье у берега, зачаленные за вкопанные ряжи пристаней или друг за друга. На остриях высоких тонких мачт висели, чуть пошевеливаясь, цветные вымпелы с номерами и литерами, обозначающими роту и батальон. Работники с бряканьем закидывали на борта судов длинные сходни. Сторожа амбаров заслоняли собою двери, чтобы в суматохе не пролезли воры. Бурьян на этом берегу давно вытоптали; всюду валялся мусор – поломанные доски и раздавленные бочки; в мутной воде плавали щепки и клочья конопати; воняло смолой, гнилой рыбой и дымом. Под старыми барками, вытащенными на сушу, летом ночевала всякая пьянь и рвань, что промышляла копеечной работой на погрузках и сбором хлама – лопнувших бондарных обручей, потерянных гвоздей и скоб, тряпичных клочьев и верёвочных обрывков.
Командиры распустили солдат, чтобы те поклонились родне и всем, кто пришёл на проводы. Гомонящая толпа заполнила весь берег. Бабы с воем повисли на плечах уходящих мужей и братьев, всюду обнимались и хлопали друг друга по спинам, старики крестили сыновей, шныряли жадные до впечатлений мальчишки и вертелись собаки, не понимая, что за переполох. Бухгольц и офицеры подъехали на конях, спешились и поднялись на взвоз высокого амбара, чтобы сверху наблюдать за сборищем. Через толпу, ругаясь на всех подряд, артиллеристы с трудом катили по колдобинам пушки. Какой-то пьяный дурачок плясал сам для себя вприсядку и стрекотал на домре. Пяток солдат-бобылей, которых никто не провожал, укрылись от командиров за грязным балаганом смолокурни и распивали водку из кожаной фляги.
Сержант Андреян Кичигин, сосед Ремезовых по улице, возле мостков прощался с домашними, уже не чая вырваться из объятий родни.
– Я тебя знаю, Андрюха, – тряся головой, говорил отец, – ты шальной, ты там не буйствуй, понял? Налетят калмыки – издаля коли их пикой, из пистоля пальни, а саблю не хватай, они на саблях сноровистые. Помнишь Михайлу Зеленцова? Он на Ишиме в дозоре тоже с калмыками сбежался, их четверо было, а калмыков – дюжина, так они сразу за фузеи взялись…
– Да помню о том, батя, помню.
– Молись ежеутренне, Андреюшка, Христом Богом прошу, – не слыша отца, говорила мать, поправляя камзол на груди сына. – Отец Лахтион тебе на бумазейку канун списал, так ты его читай тихонечко, Бог-то услышит! Кто в молитвословии усерден, того анделы хранят…
– Буду, матушка, буду.
– Возьми, Андрюшенька, возьми, – твердила жена, пихая в руки мужу расшитый мешочек. – Я тебе ещё туда зверобой и чабрец сушёные положила, в скляночке там притирка, коли спину заломит, и узелочек мягонький такой – это я ветошь всю ночь теребила, можно под перевязку насовать, ежели рана.
– Уходите домой, Аграфена, – страдальчески попросил Андреян.
Сынишка дёргал его за рукав и добивался внимания.
– Батя, батя, батя, батя, – ныл он, – привези мне нож кривой калмыцкий!
Шведские офицеры, записанные в драгунский шквадрон, сдав коней ездовым, которые погонят табун в Тару по гужевой дороге, стояли у сходней своего дощаника и принимали наставления от ольдермана фон Вреха. Фон Врех обеими руками бережно держал узкую шкатулку, в которой на атласном платке покоилась рукописная тетрадь, свёрнутая в трубку и красиво перевязанная голубой лентой. Ветерок шевелил бант на шляпе ольдермана.
– Господа, в знак нерасторжимого духовного единения с общиной, которая возносит молитвы за ваше благополучное возвращение, примите список наставлений профессора Франке. Это самые поучительные выдержки из сочинений господина профессора, книга которых была благословлена самим архиепископом в Уппсальском соборе у погребения короля Густава.
Лейтенант Эрик Ульфспарр принял шкатулку, закрыл её на крючок и сдержанно поцеловал монограмму короля Карла, вырезанную на крышке, – семиконечную звезду, оплетённую венком с римскими цифрами «XII».
Шведские офицеры не препятствовали, чтобы солдаты тоже выпили водки. Солдаты собрались в круг и передавали друг другу пузатую бутыль из тёмного стекла. Пожилой солдат, утирая усы, сказал:
– Ничего хорошего в этом предприятии я не вижу, друзья. Утешает только то, что можно развеяться от бесконечной русской скуки.
– Дозволят ли нам оставить себе мундиры после похода?
– Думаю, через два года эти мундиры будут годиться лишь для пугал.
– Остаётся надеяться, господа, что, когда мы вернёмся, король Карл уже обезглавит царя Петера на Сторторгете, и нас сразу отпустят домой.
– Говорите осторожнее, Людвиг. Русские уже понимают по-шведски.
Среди солдат был и Цимс – конечно, он не мог упустить бесплатную выпивку. Он пожимал руки уходящим, хлопал по плечам и всякий раз подставлял кружку, когда кто-нибудь наклонял бутылку. Однако Цимс не забывал про Бригитту и то и дело искал её глазами. Он нарочно взял жену с собой: пусть она увидит, как её любовник отправляется на два года в поход к чёрту на рога. Цимс торжествовал. Хотя он – простой солдат, а господин Ренат – офицер, он не позволил Ренату отобрать у себя жену. Цимс был уверен, что отъезд Рената объясняется тем, что офицер испугался его.
Бригитта смиренно стояла в стороне, сложив руки на праздничном переднике, как служанка в ожидании указаний хозяина, но она давно уже отыскала Рената взглядом. Цимс не заметил этого, потому что отвлекался на водку. Ренат помогал русским артиллеристам закатить орудие по сходням. Бригитта смотрела, какой Хансли ловкий, гибкий и сильный, как туго натягивается рубашка на его спине, когда он упирается в станину лафета, и не сомневалась, что через полгода они будут вместе. Хансли справится, а она вытерпит. Хансли сказал, что у него созрел удивительный план: зимой с обозом Бригитта поедет в лагерь Бухгольца, там они с Ренатом соединятся и сбегут к степнякам. Бригитта допускала, что план Хансли может привести их к гибели. Но Хансли – здравомыслящий мужчина. Он всё взвесил. План должен удаться. И незачем ей сейчас изводить себя сомнениями, которые только сокрушают волю. А если небо уготовило им поражение, значит, они достойно примут смерть. Но вдвоём. Это тоже приемлемый выход.
Ренат оглянулся, увидел Бригитту и бросил пушку. Он стоял у сходен по колено в воде – длинные волосы собраны в косицу, белая рубашка с бантом намокла от пота, сборные манжеты испачканы коломазью пушечных колёс, короткие кюлоты с пуговицами оголяют крепкие икры и щиколотки… Ренат молча прижал ладонь к сердцу. Бригитта спокойно повторила его жест, не заботясь о том, смотрит на неё Цимс или нет.
Ходжа Касым тоже наблюдал за отправкой русского войска. Он купил себе хорошее место на гульбище одного из пристанских амбаров и сидел на лавке, покрытой ковром. На гульбище друг за другом поднялись Асфандияр и Хамзат – молодой татарин, который добивался места в лавке Касыма.
– Я насчитал пятьдесят четыре лодки, господин, – торопливо сказал Хамзат первым, даже забыв поклониться.
– Тридцать две большие лодки и двадцать семь малых, – сообщил Асфандияр. – А ещё четырнадцать пушек, из которых две в рамах.
– Учись зоркости у тех, кто умудрён опытом, Хамзат, – наставительно произнёс Ходжа Касым. – Иначе тебе не стать добрым саркором.
А Ремезовы еле нашли Петьку. Он стеснялся, что семья провожает его, как маленького, – товарищи засмеют, а потому умело затерялся среди солдат и сразу шмыгнул на дощаник. По пути он уцепил Володьку Легостаева и велел передать Ремезовым: дескать, Пётр искал- искал отца и мать, да не успел отыскать, сердитый командир погнал его на воинское место, но Пётр попросил не тужить, а его шапку с красным подбоем пусть матушка приберёт и Лёшке не даёт, а то он истреплет. Семён Ульяныч чуть не схватил Володьку за горло, и Володька сразу сдался: открыл, где Петька прячется, сам побежал на дощаник и привёл солдата к разъярённому родителю.
Семён Ульяныч отвесил Петьке затрещину, но Ефимья Митрофановна обхватила сына руками и зарыдала, и у Семёна Ульяныча тоже затряслась борода. Все толпились вокруг Петьки: Леонтий, Семён, Машка, Варвара с Федюнькой и Танюшкой, Лёшка, Лёнька и даже Фимка Волкова, которая увязалась на пристань за Машкой. Ефимья Митрофановна всё совала Петьке в руки узел со стряпнёй, и Петька незаметно передал его Володьке.
– Помни, дурень, стрясётся что с тобой – мать не переживёт! – грозил Семён Ульянович и норовил дёрнуть Петьку за чуб, а Петька уворачивался. – На меня наплевал – ладно, мне в гроб пора, а её-то пожалей!
– Защитит, – сказала Варвара, навешивая Петьке на шею крестик.
– Дай пистолет посмотреть, – шёпотом просил сбоку Лёшка.
– Мы, Петька, с тобой в молитвах, – серьёзно произнёс Семён.
Леонтий вложил Петьке в руку берестяную коробочку.
– Берегись там в степи, братик, – Леонтий как-то по-бабьи погладил Петьку по голове. – Я тебе кремней принёс и пружины, наменял добрых у Никиты Усольцева, он сам для своего ружья калил и крутил, не сломятся.
Маша потихоньку отделилась от родни – им сейчас не до неё. Она хотела увидеть Ваньку Демарина. Он ведь в тот же поход идёт, а проводить его некому. Жалко, что не сложилось меж ними, ну да Богу видней.
Ванька стоял на причале и курил трубку – нелепое занятие в общей сутолоке. Маша сразу поняла, что он чувствует себя потерянно. Ему некуда деться. Если сидеть на судне, то все увидят, какой он жалкий и одинокий. Лучше торчать здесь, на берегу, будто бы он занят какими-то важными мыслями или наблюдениями, требующими сосредоточения с трубкой. Маша подошла, теребя концы платочка, и не знала, что сказать. Он хороший, Ванька. Только слишком гордый. Думает, что все должны ему покоряться.
– Вань, давай я буду тебя ждать? – предложила Маша.
Ванька глядел в сторону, окутываясь клубами дыма.
– Не утруждайтесь, Марья Семёновна, – надменно ответил он.
Маша вспомнила Петьку, которому никакая любовь и забота не нужна, а вокруг него пляшут, как на Масленице вокруг чучела. А Ваня не такой. Он словно лучина – твёрдый и острый, но сломить – только пальцем нажать. Он в армии не научен с людьми уживаться. Не умеет отступать и миловать. Но ведь и она его, в общем, тоже не помиловала: откуда ему уметь? От кого?
– Ты сердись, сколько хочешь, только возвращайся, – искренне сказала Маша в порыве жалости и великодушия.
– Как бог даст, я на службе, – мрачно ответил Ваня.
Маша поняла, что́ он имеет в виду. «Лучше мне погибнуть, чем снова о людей обжигаться и мучиться», – вот что. Маша внимательно смотрела на Ваньку. Конечно, ему хочется погибнуть, а все потом из-за него раскаются и будут горевать. С такими мыслями и лезут на рожон. Из рук вырываются и лезут всем назло. И удержать такого дурака от глупости можно только одним способом – заставить беречь не себя, а другого. Маша осознала всё это без слов – одной только врождённой мудростью будущей женщины.
– Я тебя попрошу, Ваня, за братом моим последить, – серьёзно сказала она. – Ты в воинском деле учёный, а у него ветер в башке.
– Как угодно, Марья Семёновна.
Маша спокойно шагнула к Ване, поцеловала его в скулу, словно это было делом обычным, и пошла прочь.
Через толпу на пристанях вдоль линии причалов ехала карета Матвея Петровича, запряжённая четвёркой лошадей. Кучер орал, разгоняя народ, а на запятках висел лакей Капитон. Тяжёлый кузов кареты, щедро покрытый золочёной резьбой, покачивался и скрипел, подвешенный к раме на прочных ремнях. Под сиденьем кучера время от времени глухо скрежетала железная «лебяжья шейка» – поворотная станина колымаги. Приоткрыв дверку, Матвей Петрович рассматривал толпу и суда на реке. Напротив губернатора сидел Дитмер, стараясь при толчках сохранить достоинство.
Матвей Петрович увидел Рената.
– Стой, стой! – высовываясь, закричал он кучеру и, задвигаясь обратно в карету, сказал Дитмеру: – Ефимка, сбегай-ка мне вон за тем офицером.
Дитмер не стал спорить, хотя задание было для лакея, а не секретаря.
Ренат осторожно забрался в карету, и Гагарин захлопнул дверку, оставив Дитмера снаружи. Ренат опустился на сиденье, глядя на губернатора. Матвей Петрович поднёс палец к губам, давая знак молчать, и задёрнул на оконце занавеску. Он был уверен, что Дитмер постарается подслушать. Ренат ждал. Матвей Петрович снял шляпу, расстегнул крючки на вороте камзола, извлёк из-под кружев мешочек с пайцзой и через голову стащил шнурок.
– Уговор помнишь? – почти беззвучно спросил он.
Ренат кивнул. Гагарин протянул ему пайцзу.
– Это жизнь твоя, – так же беззвучно сказал Гагарин и для наглядности провёл ребром ладони по шее: не исполнишь – сниму башку.
Ренат надел пайцзу и спрятал на груди.
– Иди, – приказал Гагарин и открыл дверку, выпуская Рената. – Ефимка, позови Бухгольца. Пора ему отваливать. Долгие проводы – лишние слёзы.
Матвей Петрович сделал свой ход и желал, чтобы игра пошла быстрее.
Отплытие было объявлено выстрелом из сигнальной пушчонки. Звонкий хлопок лопнул над пристанями, эхо проскочило сквозь частокол мачт на простор Иртыша и разлетелось вверх и вниз по реке. Толпа загомонила с новой силой. Гнусаво запели рожки сержантов. Солдаты, уже уставшие от прощания, выдирались из рук родни, кланялись и бежали к своим судам. Офицеры пересчитывали людей по головам. На берегу рыдали и что-то выкрикивали вдогонку. Гулко плескала вода под сброшенными сходнями.
Отвальный выстрел услышали и на Верхнем посаде. Митрополит Иоанн приподнял голову с подушки и посмотрел на инока Николку.
– Это войско отходит от пристани, отче, – пояснил Николка.
С Софийской площади монахи под руки привели ослабевшего владыку в Архиерейский дом, в свою палату, бережно освободили от торжественного облачения, уложили на топчан и натёрли виски уксусом. Иоанну требовался покой, и рядом с ним остался только Николка. За окном щебетали птицы.
– Мало будет вернувшихся, – тихо сказал Иоанн.
– Ты о чём, отче?
– О солдатиках.
– Зачем пророчествуешь недобро? – испугался Николка.
– Я не от себя.
– Ты лучше отдохни. Смущённому духу и видения злые.
Иоанн вздохнул и отвернулся. Николка немного подождал, поднялся с лавки и наклонился над владыкой, прислушиваясь: Иоанн спал.
Он спал весь день и весь вечер, но сон его был тревожным, мутным. Плыли по реке дощаники, раздувая паруса, поднимались и опускались вёсла, смеялись солдаты, блестя из-под усов белыми зубами, солнце сияло на меди офицерских горжетов, сильные руки, крепкие плечи, молодость и здоровье, весёлый голод перед ужином, хохот у костров, шуточная борьба, сладкая немощь честной усталости, горячий ветер из степи, жаворонки в небе – и вдруг свист метели, стужа, грохот, огонь и отточенное железо, рассекающее живые тела… А потом люди снова плывут по реке: торчат мокрые клинья задранных мужских бород, бабы лежат в ореоле распустившихся волос, а дети коротенькие-коротенькие, и в тёмной воде среди льдин и трупов покачиваются вещи – шапки, женские расшитые платки, корзины, детские салазки, подушки… Нет, это не то войско, что ушло в степь! Это мертвецы из города Батурина, которых он видел пять лет назад!..
Иоанн открыл глаза. Ночь. В глубоком окошке светится бессолнечное северное небо. Серые каменные башни пустого Софийского двора, серый собор, пепельная трава. В келье – никого, лишь тлеет лампада перед иконой.
Иоанн медленно поднялся со своего лежака, добрёл до столика и вытянул из поставца чистый лист бумаги. Перо. Чернильница. Свеча – для старческого зрения света из окошка не хватает… Он ведь может спасти этих молодых солдат. Он напишет царю письмо и расскажет о своём видении. Он, Иоанн, – не убогий монашек из какой-нибудь захудалой обители в лесах под Костромой. Он – сибирский митрополит. Он знает цену своему слову. Царь должен ему поверить. Должен. И царь вернёт войско обратно, отменит поход.
Иоанн поднёс свечу к лампаде в киоте. Огонёк выявил лик Богоматери – её печальные очи и лазоревый убрус. Этот образ владыка привёз с собой из Чернигова. Сколько его молитв слышала Богоматерь – не счесть. И пред её ликом Иоанн вдруг понял, что всё бесполезно. Солдат уже не вернуть. Пока его письмо доберётся до Петербурга, пока указ царя прибудет обратно в Тобольск, войско уйдёт так далеко в степь, что никакой гонец его не догонит. Что предначертано, то исполнится. А ему, владыке, – только новая печаль. Но зачем ему такая горечь на излёте жизни?
– Избави меня, дево, – всей силой души попросил Иоанн у Богоматери.
Вдруг раздался тихий стук в дверь. Наверное, это был Николка.
– Войди, – разрешил Иоанн.
Дверь открылась, но за ней никого не было. Сквозь дверной проём Иоанн видел угол сеней и Николку, спящего на лавке. А в келье по углам что-то зашуршало и бесплотно зашепталось. Сумрачный воздух вокруг затрепетал, по своду и стенам заметались невесомые острые тени, словно от чьих-то крыл. Иоанн поднял глаза на икону, озарённую его свечой.
– Ныне отпущаеши, – жемчужными губами произнесла Богоматерь.
Иоанн почувствовал, что тяжёлое, уже непослушное тело его легчает, становится пустым, словно облетевшее по осени дерево, и освобождающаяся душа, не скованная теперь ничем, обретает изначальную красоту и величие. Оказывается, он уже сидел на полу под киотом, ещё держа в руке свечу. Покоряясь, Иоанн расслабленно лёг, ощутив щекой деревянную половицу. Ноги его вздрогнули, будто он во сне перешагивал через порог.
Дверь сама собой закрылась.
Иоанн лежал мёртвый, теряя последнее тепло, но худая старческая рука владыки и после смерти сжимала свечу. И огонёк свечи не угасал.







