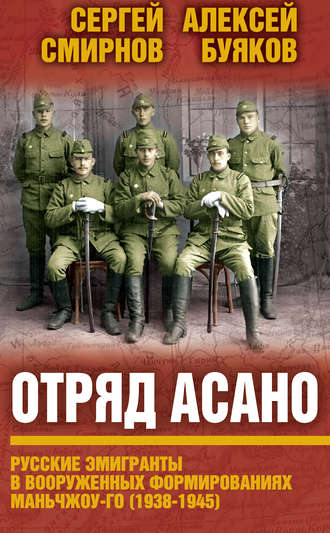
Алексей Буяков
Отряд Асано. Русские эмигранты в вооруженных формированиях Маньчжоу-го (1938–1945)

Ложенков Д. Л. ГАХК
Из Яблоньского полицейского отряда на станцию Сунгари-2 прибыли Константин Лисецкий, Сергей Ивахненко, Андрей Кадочников, Герман. Из Шитоухэцзийского отряда – Николай Ежовский, коренной харбинец, выпускник ВПУ 1937 года, из Ханьдаохэцзийского – младший надзиратель Николай Постовский, служивший в начале 1930-х годов в Русском отряде Шанхайского волонтерского корпуса, позднее – в охранном отряде на станции Шитоухэцзы, выпускник первого набора ВПУ.[104]

Лисецкий К. И. ГАХК
Несколько человек прибыли в отряд из других полицейских подразделений. Андрей Враштиль до откомандирования в отряд на Сунгари-2 служил в охране шоссейных дорог в районе Андуна и Сунго. Андрей был младшим сыном героя Гражданской войны, Георгиевского кавалера, полковника Виктора Владимировича Враштиля, замученного со своими бойцами на реке Хор недалеко от Хабаровска в апреле 1920 года. В Харбине Враштиль окончил гимназию Оксаковской. Во время обучения состоял в Союзе мушкетеров. После окончания гимназии в 1932 году он уехал в Гонконг, где обучался в английском колледже, позднее жил в Шанхае. В начале 1937 года два месяца служил в Русском полку Шанхайского волонтерского корпуса, затем оставил Шанхай и вернулся в Харбин, где поступил в охрану шоссейных дорог.[105]

Враштиль А. В. ГАХК
Из железнодорожной полиции западной линии в отряд майора Асано был направлен Николай Бородин, в 1930 году в пятнадцатилетнем возрасте бежавший в Маньчжурию с территории СССР с двумя братьями. С 1937 года он служил в отряде железнодорожной полиции станции Цаган, располагавшейся в нескольких километрах от советской границы.
15 марта 1938 года группа кандидатов на звания младших командиров в сопровождении японского офицера прибыла на станцию Сунгари-2. Многие из прибывших не ожидали, что они окажутся на службе в «японской армии», но уже ничего невозможно было изменить.
На следующий день курсанты были обмундированы в военную форму, но без погон, и сразу же начались изнурительные занятия, сопровождаемые командами на японском языке: «Ацумарэ!» (Становись!), «Кивоикэ!» (Смирно!), «Мигиэ-нарай!» (Направо равняйсь!), «Бангоу!» (Рассчитайсь!), «Какэ-аси сусумэ!» (Бегом марш!) и т. д.
Большая часть курсантов понимали по-японски, но, за исключением Константина Лисецкого, окончившего в Харбине курсы переводчиков разговорного японского языка, не имели достаточных языковых знаний. Поэтому на занятиях в качестве переводчиков присутствовали майор Коссов и капитан Асерьянц. Они же на специальных занятиях преподавали курсантам японский язык.
Курсантам не только пришлось на ходу осваивать японский язык, но и научиться уживаться друг с другом, отодвинув вчерашние «партийные» разногласия. Вчерашние фашисты, мушкетеры, легитимисты теперь маршировали в одном строю под команды японских офицеров.
После месячной подготовки курсанты получили свои первые звания – младших и старших унтер-офицеров с должностными обязанностями командиров отделений.
Система воинских званий в отряде, формально формируемом в составе армии Маньчжоу-го, так же как и в Маньчжурской Императорской армии, полностью соответствовала системе, принятой в японской армии. К рядовому составу относились рядовой 2-го класса (нитто-хэй), рядовой 1-го класса (итто-хэй), старший рядовой (ефрейтор – джото-хэй). Унтер-офицерский состав включал капрала (старший ефрейтор – го-чо), младшего и старшего унтер-офицеров (гун-со, со-шо). Затем следовали старшина (фельдфебель – юн-и), прапорщик (старшина 1-го класса – юнши-кан) и обер-офицеры (и-кан) – подпоручик (второй лейтенант – шо-и), поручик (первый лейтенант – чу-и), капитан (тай-и). Замыкала офицерские звания категория штаб-офицеров (са-кан): майор (шо-са), подполковник (чу-са) и полковник (тай-са).
Вновь произведенных в младшие командиры эмигрантов распределили по подразделениям. По планам японского командования, отряд должен был состоять из четырех подразделений – стрелкового, саперного, артиллерийского и подразделения связи. По фамилиям командиров подразделений – капитанов Васио (с августа 1938 по апрель 1939 года – капитан Кодама), Асакура, Кумада, Оомура – они именовались часть Васио (Кодама), часть Асакура, часть Кумада, часть Оомура. В случае смены командира изменялось и название части.
Стрелковая часть Васио состояла из трех взводов, имевших по три отделения. Помощниками командира части являлись поручик Китамура и прапорщик И. И. Якуш,[106] взводными командирами – поручики Исино, Икэда и Айда. В качестве командиров отделений в часть Васио были определены Д. Ложенков, А. Макаревич, В. Мустафин, Г. Шехерев и др. В состав саперной части Асакура входили два взвода под командованием поручиков Хиромацу и Катахира. Русскими командирами отделений в части стали – А. Бердник, Н. Ежовский, К. Лисецкий, А. Макаров и др. Артиллерийская часть Кумада и часть связи Оомура являлись взводами. К артиллеристам откомандировали Ю. Витвицкого, В. Тырсина, А. Шабельника и др., к связистам – Г. Ефимова, Л. Мустафина, Н. Рычкова, Г. Тоболова. Кузнецов был назначен в качестве писаря в штаб отряда, а Джакелли – в хозчасть.
Младший комсостав отряда, сформированный из русских эмигрантов, заложил кадровую основу русских регулярных воинских подразделений в армии Маньчжоу-го.
Штаб отряда майора Асано, помимо русских офицеров – Коссова и Асерьянца, был укомплектован японскими офицерами. Начальником штаба являлся майор Минами (позднее – майор Синода Рокудзо), штабным офицером – капитан Идзима (Эдзима) Такэси, адъютантом отряда – капитан Адати, начальником интендантского отдела – капитан Ооно, отдела вооружения – капитан Хиромацу, ветеринарного отдела – капитан Мацура, санитарного отдела – капитан Икэда.[107]
В середине апреля 1938 года на Сунгари-2 начал прибывать рядовой контингент отряда, составивший 200 человек. Подбор кадров для службы в отряде осуществлялся через структуры эмигрантской администрации, Управление отрядами горно-лесной полиции, ВФП.
В Харбине набором эмигрантов на военную службу занимался 7-й отдел БРЭМ – Дальневосточный союз военных.[108] На местах набор происходил под контролем районных отделений Бюро, на западной ветке КВЖД и в Трехречье с преимущественно казачьим населением – через станичные и поселковые казачьи правления. При этом далеко не всегда будущие военнослужащие знали цель своего назначения. Так, в Онэнорском районе 14 молодых казаков, отобранных станичным правлением для службы в армии, вплоть до прибытия на место назначения полагали, что едут учиться на курсы шоферов.[109]

Литвинцев П. Г. ГААОСО
Одним из отправленных на «курсы шоферов» являлся забайкальский казак Петр Литвинцев, едва достигший в то время 17-летнего возраста. В феврале 1938 года Литвинцев, проживавший с семьей в поселке Култук, был вызван вместе с еще одиннадцатью молодыми казаками в Онэнорское управление станичного атамана, где их определили в команду непосредственных участников традиционного казачьего праздника, проводившегося ежегодно 30 марта. Полтора месяца 80 молодых казаков из различных поселков обучались строю, ружейным приемам, штыковому бою и снарядной гимнастике. На следующий день после окончания праздника Литвинцев получил приглашение явиться к станичному атаману полковнику Парыгину, где ему было объявлено, что он направляется на курсы шоферов и любые возражения здесь неуместны, а родители будут извещены о его учебе. Через три дня после разговора со станичным атаманом Литвинцев в группе из 25 человек на машине прибыл на станцию Няньцзышань, где была организована медицинская комиссия, отобравшая 14 претендентов на обучение на «курсах шоферов». На следующий день будущие «курсанты» выехали на станцию Сунгари-2, остальные были распущены по домам.[110]
Аналогичным образом ситуация с «призывом» складывалась в Трехречье. Например, проживавший в поселке Верхние Кули Владимир Алтабасов в апреле 1938 года был вызван к станичному атаману генералу Г. Е. Мациевскому в поселок Драгоценка. Мациевский объявил Алтабасову, что тот отправляется на станцию Сунгари-2 учиться, не конкретизировав, чему именно («сказал: поедешь учиться на станцию Сунгари-2, а на кого учиться, он мне не сказал»), и вручил ему пакет, который нужно было по прибытии на место назначения передать начальству.[111]
Тимофей Сорочинский из Харбина, не имея постоянной работы, обратился в ее поисках в БРЭМ, где ему предложили работу в мастерских на станции Сунгари-2.[112] Он согласился и оказался в воинском отряде. И такие случаи были не единичны.
По распоряжению Управления отрядами горно-лесной полиции командиры всех десяти полицейских отрядов также должны были отобрать и направить в формирующееся подразделение майора Асано по нескольку годных для военной службы молодых людей. Известно, например, что полицейский отряд на Мулинских угольных копях направил в армию десять человек, отряд на Кисийских угольных копях – пятнадцать человек, отряд на станции Эрдаохэцзы – десять человек и т. д. Полицейские подразделения обеспечили половину всего рядового состава «асановцев».
Небольшую часть новобранцев составили добровольцы. Фашистская партия, претендовавшая на особую роль в организации эмигрантских военных формирований, сумела собрать только двенадцать человек, выразивших желание служить в японском отряде. Некоторые из них даже не были членами ВФП.
Одним из добровольцев был Анатолий Богатырь, семья которого бежала на территорию Маньчжурии в 1930 году во время коллективизации. Мальчику в это время было десять лет. Помимо него в семье было еще шестеро детей. Первоначально положение семьи было стабильным – отец работал в крупной русской фирме «Чурин и сыновья». Но после смерти отца в 1934 году семейное благосостояние резко ухудшилось. Анатолий в шестнадцать лет, не окончив полного курса средней школы, вынужден был начать работать – сначала мальчиком, позднее приказчиком в магазине фирмы Чурина. Но ему хотелось чего-то большего, особенно будила воображение военная служба. Поэтому, когда весной тридцать восьмого Богатырь узнал от своих знакомых о том, что фашистская партия набирает добровольцев для службы в армии и им обещают хорошее жалованье, он подал прошение о зачислении на военную службу.[113]
Прибывшие 15 апреля 1938 года на станцию Сунгари-2 новобранцы еще раз прошли медкомиссию, дали подробные биографические данные о себе, получили воинские книжки и обмундирование армии Маньчжоу-го без знаков различия. К концу первой недели обучения новобранцы дали присягу на верность правительству Маньчжурской империи, обязуясь честно исполнять свой воинский долг, точно и беспрекословно выполнять все приказания командования, сохранять воинскую тайну.[114] К концу апреля формирование отряда было закончено.
29 апреля 1938 года, в день рождения японского императора Хирохито (29 апреля 1901 года), отряд получил государственный акт об его основании – Высочайший Рескрипт – и официально начал свое существование. По фамилии командира отряда майора Асано подразделение стало именоваться «отряд Асано» (Асано бутай), а 29 апреля стало ежегодным отрядным праздником.
Глава 2
Отряд Асано (апрель 1938 – июнь 1941 г.)
Прежде чем рассказывать о жизни отряда Асано, необходимо остановиться на характеристике его как воинского подразделения.
Вооружение и снаряжение асановцев соответствовало назначению подразделений, в которых они проходили службу. Рядовой состав отряда был вооружен японскими пятизарядными магазинными винтовками Арисака тип 38. Штык-нож винтовки носился на поясном ремне слева. Стрелки и саперы также имели на вооружении ручные пулеметы Арисака тип 96 и 50-мм ручные гранатометы тип 89. Ручные гранатометы было бы точнее именовать взводными минометами, имевшими очень простую конструкцию. Такой миномет состоял из трубы, штыря и опорной плиты. Верхняя часть штыря крепилась к казеннику ствола, а нижняя – к прямоугольной опорной плите. При стрельбе солдат наклонял ствол миномета под углом в 45° к горизонту и упирал его плитой в грунт. Вес и габариты 50-мм миномета позволяли носить его на бедре, как самурайский меч.[115]
Унтер-офицерский и офицерский состав был вооружен «маузерами» Намбу тип 14, чины от фельдфебеля и выше имели сабли.[116] Впрочем, офицеры-японцы, особенно происходившие из старых самурайских родов, предпочитали носить вместо сабли самурайский меч, нередко передававшийся в семье из поколения в поколение. Это не соответствовало уставу, но было широко распространено в японской армии. В дальнейшем это проявилось и в среде русских офицеров отряда, часть которых носили не саблю, а казачью шашку. Так, на одной из фотографий 1942 года можно увидеть, что Тырсин, оренбургский казак, вооружен не стандартной кавалерийской саблей, а казачьей шашкой.

Винтовка и карабин Арисака тип 38

Ручной пулемет Арисака тип 11 и 96

Ручной гранатомет тип 89

«Маузер» Намбу тип 14
Артиллерийская часть отряда располагала двумя горными 3-дюймовыми (75-мм) пушками тип 41 (образца 1908 года) и 70-мм горной гаубицей образца 1932 года (бомбометом) на конной тяге.[117]

Горная 3-дюймовая (75 мм) пушка тип 41
Подчиненные капитана Оомуры обучались различным способам связи. Часть состояла из трех отделений: радиотелеграфистов (15 человек), почтовых голубей (5 человек) и связных собак (5 человек). Радисты работали в основном с 4-ламповой станцией «Гогоки», радиус действия которой составлял до 200 км.
Была и более мощная станция «Сангоки», принимавшая и передававшая сообщения на 500–700 км, а также малодистанционная «Гогота», обеспечивавшая связь в полевых условиях между подразделениями.[118] При работе на радиостанциях русские связисты использовали японский 3-значный цифровой шифр. Голубеводами и собаководами в подразделении обычно становились те, кто не имел полного среднего образования.[119] В распоряжении голубеводов и собаководов находилось 40 почтовых голубей и первоначально 6 связных собак породы немецкая овчарка.[120]
Обмундирование бойцов отряда соответствовало образцам, принятым в армии Маньчжоу-го, которые, в свою очередь, копировали форму японских военнослужащих образца 1930 года (тип 90). Форма состояла из мундира, брюк и полотняных (шерстяных) обмоток цвета хаки с горчичным оттенком. Летний вариант обмундирования изготовлялся из легкой хлопчатобумажной ткани, зимний вариант – из плотной шерстяной материи. Мундир имел жесткий стоячий воротник, пять медных или латунных пуговиц спереди, два нагрудных и два боковых прорезных или накладных кармана. Брюки имели вид бриджей длиною чуть ниже колен с застежкой внизу. Брюки заправлялись в обмотки. Дополняли обмундирование полевое суконное или шерстяное кепи (как показывают фотографии, русские военнослужащие также носили фуражки), широкий кожаный поясной ремень и коричневые ботинки из свиной кожи до лодыжек. Носили также матерчатые туфли на резиновой подошве.
В начале 40-х годов в русских подразделениях стало вводиться новое обмундирование по типу японской формы образца 1938 года (тип 98), отличавшееся от типа 90 главным образом моделью воротника, который был стояче-отложным.
Верхняя одежда военнослужащих состояла из шинели и зимнего пальто. Шинель тип 90 шилась из плотной шерстяной ткани, являлась двубортной с двумя вертикальными рядами пуговиц. К воротнику мог пристегиваться большой капюшон. Шинель типа 98 стала однобортной. Также использовались брезентовые дождевики. Зимой выдавались двубортные пальто с подкладкой из овчины или меха и зимние шапки на заячьем меху с поднимающимися наушниками. Зимние полуботинки дополнялись гетрами и крагами на меху. Зимние перчатки были стегаными, с отдельными большим и указательным пальцами.
Согласно нормам вещевого довольствия, рядовые должны были получать по две пары обычного и теплого белья на год, а также по две пары летнего и зимнего обмундирования. Обувь использовалась до полного износа. Обмундирование офицеров отряда было гораздо лучшего качества, чем у рядового состава, и обычно шилось на заказ из выдаваемого офицерам материала.[121]
Знаки различия личного состава отряда Асано, первоначально такие же, как в армии Маньчжоу-го, уже летом 1938 года были заменены на японские. Матерчатые погоны малинового цвета в виде поперечных нашивок размещались на стыке плеча и верхней части рукава мундира, звание обозначалось просветами и звездочками золотого цвета. Звездочки на погонах солдат и ефрейторов были матерчатыми, у всех остальных категорий военнослужащих – металлическими. Погоны прапорщиков и офицеров обшивались по краю золотым галуном. На воротник кителя пришивались петлицы, цвет которых соответствовал роду войск (пехота – красный, кавалерия – зеленый, артиллерия – желтый, инженерные части – коричневый). На полевом кепи отрядники носили пятилучевую пятицветную (сообразно цветам государственного флага Маньчжоу-го) звезду, принятую в маньчжурской армии.
Срок военной службы для русских эмигрантов был первоначально определен в два года. Все обучение проходило на основании японских уставов и на японском языке, в связи с чем в программу обучения был введен курс начальной языковой подготовки. В первые месяцы службы все асановцы осваивали стандартный армейский курс – строевая подготовка, материальная часть вооружения и огневая подготовка, штыковой бой, действия бойца в одиночном порядке и в составе подразделения, караульная служба, первая медицинская помощь и т. д. Затем давалась углубленная подготовка по военной специальности, соответствовавшей профилю подразделения. Специальных дисциплин разведывательно-диверсионного характера в учебной программе отряда Асано первоначально не было.
Большое внимание уделялось «моральному воспитанию». В японской армии еще в середине 20-х годов была введена политико-воспитательная работа. Считалось, что моральное совершенствование выше, чем физическая сила. В армейских документах, где была представлена концепция морального воспитания, говорилось: «Дисциплина, воинская доблесть, героизм и, наконец, победа даются только тем, кто одухотворен идеей преданности его императорскому величеству».[122] Японский солдатский устав Сендзинкун, которым руководствовались японские войска вплоть до 1945 года, основывался на «пяти словах» Императорского рескрипта 1873 года:
1. Солдат должен исполнять свой долг перед страной.
2. Солдат должен быть учтив.
3. Солдат должен выказывать отвагу на войне.
4. Солдат должен держать свое слово.
5. Солдат должен вести простую жизнь.
Главным посылом Сендзинкун являлась преданность долгу и императору. Лояльность устав считал «главной обязанностью» солдата: «Запомни, что защита государства и возрастание его мощи зависят от силы армии. Помни, что долг тяжелее горы, а смерть легче пуха…»[123]
Японские офицеры очень серьезно относились к выдержанным в духе Бусидо[124] указаниям Сендзикун и стремились привить их русским солдатам. На так называемых «духовных лекциях» русским солдатам внедрялись идеи героизма и патриотизма японской Императорской армии, являющейся образцом для подражания, важности борьбы против Коминтерна и создания Великой Восточной Азии. Но когда японский патриотизм зашкаливало на паназиатском лозунге «До Урала!», это начинало раздражать русских, что, впрочем, приходилось тщательно скрывать, поскольку проявлять столь неуважительное отношение к имперской идеологии, осененной величием богоподобного императора Ниппон, было опасно.
Важное участие в «духовном воспитании» бойцов отряда Асано должна была играть отрядная газета «К победе!», выдержанная в русском националистическом духе и приверженности идее создания «единого дома» под «японской крышей» в Маньчжоу-го. Составителем и редактором газеты являлся старший унтер-офицер Витвицкий, переведенный, по-видимому, в 1939 году для идеологической работы в штаб отряда.[125] Витвицкий не был лишен способностей к литературному слову и еще до военной службы пробовал себя в качестве драматурга. Известно, например, что в 1937 году в журнале «Нация» была опубликована его пьеса «Так будет», обыгрывавшая начало всеобщего антибольшевистского восстания в России, подготавливаемого фашистской партией на 1 мая 1938 года.[126]
Другой особенностью и нормой японской армейской системы являлось постоянное применение физического воздействия со стороны командиров к подчиненным и со стороны старослужащих и старших по званию низших чинов к младшим и новобранцам. По воспоминаниям служивших в отряде Асано, вплоть до прихода к руководству в отряде русских офицеров в 1944 году здесь процветало рукоприкладство. Среди русского младшего комсостава отряда в этом особенно преуспевал фельдфебель артиллерийской части Василий Тырсин, который, по воспоминаниям младших сослуживцев, отличался «зверски-грубым обращением с провинившимися, особенно при производстве дознаний по различным проступкам».[127]
Осенью 1938 года состоялся первый смотр отряда Асано командующим войсками 4-го военного округа и начальником Харбинской ЯВМ генерал-майором Хата Хикосабуро.[128] Проверяющие остались довольны подготовкой бойцов. В связи с чем несколько русских старших унтер-офицеров были произведены в фельдфебели (А. И. Бердник, В. Н. Мустафин, Н. В. Рычков, И. И. Приказчиков, В. В. Тырсин и др.), а в феврале 1939 года майор Асано был повышен в должности до подполковника[129] (по другой версии, это произошло только в 1941 году).
Появились и первые отчисления из отряда. Так, в октябре 1938 года за систематическое пьянство был уволен старший унтер-офицер, каптенармус стрелковой роты Д. М. Золотаев.
В сентябре-октябре 1938 года состоялся первый учебный поход асановцев в долину реки Чол. Японское командование всегда уделяло большое значение в деле военной подготовки личного состава пехотных подразделений (пехота – основа японской Императорской армии) длительным полевым маршам, главной задачей которых являлось воспитание несгибаемости и выносливости. Роты должны были совершать марш в полном составе, и любой солдат (или офицер), покинувший строй, подвергался суровому взысканию.
Участие в учебном походе приняли два взвода из стрелковой части. Командовали походом поручики Китамура и Томидзава. В ходе полевого марша, протяженность которого составила более 600 км, солдаты преодолели несколько рек и углубились в предгорья Большого Хингана. Чольский район с его сочетанием горных падей и ущелий, поросших вековыми лесами, с многочисленными горными речками и речушками являлся идеальным полигоном для проверки подразделения на прочность. К тому же здесь существовало около десяти русских поселков, начало которым было положено в 20-е годы. Поселки неплохо развивались и росли за счет переселенцев из Харбина и других районов.
Асановцы были тепло встречены чольскими поселенцами, несмотря на удивление, с которым они смотрели на русских солдат в японской форме, четко выполнявших строевые команды на японском языке.
В районе русских поселков было проведено несколько учебных занятий по отработке умений наступательного боя и ориентированию на незнакомой местности. В качестве условных противников асановцев в наступательном бою выступила местная русская молодежь. Помимо всего прочего поход имел и агитационные задачи привлечения эмигрантской молодежи на военную службу, поскольку следующий набор новобранцев в отряд Асано предполагалось осуществить в русских поселениях западной части Северной Маньчжурии.[130]
Второй набор эмигрантской молодежи в отряд Асано состоялся в марте 1939 года. Как и предполагалось ранее, сто новобранцев были призваны в основном из населенных пунктов по западной ветке СМЖД, из районов Чола и Трехречья. Так, трехреченский набор составил 50 человек,[131] набор в Онэнорском районе – 35 человек[132] и т. д. В массе своей это была казачья молодежь, воспитанная в духе старых казачьих традиций с уважительным отношением к старшим и вышестоящим, с детства прекрасно владевшая навыками конной езды. Многие молодые казаки, регулярно занимаясь охотой, были хорошими стрелками.
Возможно, большое количество казаков среди военнослужащих отряда Асано, а также стремление сделать отряд более мобильным в условиях пересеченной горно-лесной местности большинства районов Северной Маньчжурии, заставили японское руководство начать перевод отряда во второй половине 1939 года на конный строй. Окончательно реорганизация отряда завершилась к февралю следующего 1940 года.
При переводе на конный строй отряд первоначально сохранял старое деление на части, но позднее они были заменены эскадронами. В 1940–1941 годах отряд состоял из двух стрелковых эскадронов трехвзводного состава, где третий взвод являлся пулеметным. Третий эскадрон объединял в себе подразделения тяжелого оружия (орудия и станковые пулеметы) и команду связи. Первый эскадрон возглавлял капитан Томинага, имевший среди отрядников прозвище «Губа». Инструктором верховой езды эскадрона являлся капитан Икэда. Пулеметным взводом 1-го эскадрона командовал поручик Томидзава. Командиром второго эскадрона первоначально оставался капитан Асакура, который в апреле 1942 года был замещен капитаном Катахира. Третьим эскадроном до лета 1942 года командовал капитан Оомура,[133] его заместителем являлся специалист по радиосвязи, военный чиновник, инженер Сасано.[134] В составе отряда с 1939 года действовала учебная команда для подготовки унтер-офицерских кадров, находившаяся под началом капитана Китамура.[135]
Кроме того, из бойцов, имевших соответствующие навыки, была сформирована группа специалистов, в чьи обязанности входило обеспечение нормального функционирования подразделений, – кузнецов, портных, сапожников, ветеринаров. Специалисты имели нашивки из красной материи над левым локтем с соответствующим значком. Существовали курсы для подготовки специалистов.
В составе отряда был организован клуб, в рамках которого работала библиотека и созданные силами военнослужащих драматический и музыкальный кружки. В руководство клуба входили вахмистры Витвицкий и Приказчиков, служившие в идеологическом отделе штаба. У Приказчикова нарастали проблемы со здоровьем, делавшие его малопригодным для строевой службы, – одна из его рук стала сохнуть и плохо сгибалась. В дальнейшем, уже будучи офицером, он будет постоянно носить ее заложенной за борт кителя. Важное место в деятельности клуба занимал Нил Бахвалов, замечательно игравший на гармони и выступавший на сцене в роли комика. Постановки отрядного драмкружка носили в основном «антисоветский характер».[136]
В связи с переходом на конный строй на вооружение отряда поступили активно использовавшиеся в китайской армии чешские карабины (модель Vz24) и японские кавалерийские сабли тип 32 образца 1899 года. На вооружении пулеметных взводов состояли по шесть ручных пулеметов Арисака тип 96, станково-пулеметное подразделение располагало двумя станковыми пулеметами Тайсё тип 14. До 1941 года еще проводились занятия с артиллерийскими орудиями, но затем орудия были поставлены на консервацию, и занятия с ними прекратились.[137]

Станковый пулемет Тайсё тип 14

Чешская винтовка Vz 24

Кавалерийская сабля тип 32
Несколько изменилось обмундирование отрядников. Были введены кавалерийские бриджи, высокие коричневые (красные) сапоги из свиной кожи или ботинки с крагами, снизу удерживаемыми ремешком, пропущенным под ботинком. К обуви крепились железные шпоры.
Лошади для отряда закупались главным образом в Трехречье. Известно, что к весне 1940 года в распоряжении отряда находилось около 400 лошадей.[138]
Перевод отряда на конный строй привел к созданию на территории военного городка дополнительных сооружений. Вероятно, в 1940 году военный городок на Сунгари-2 приобрел свой окончательный вид. На территории гарнизона располагались четыре казармы, штабное помещение, офицерское собрание, соседствовавшее в одном здании с лекционным залом, две столовые, расположенное у главных ворот караульное помещение с карцером, санитарная и ветеринарная части. Пороховой погреб (оружейный склад и склад боепитания), окруженный валом, фуражный и вещевой склады, радиостанция, конюшни и колодцы (была еще заброшенная водокачка), собачник и голубятня. Кроме того – кухня с пекарней, сапожная мастерская, кузница, баня с прачечной, гараж. К высокому берегу Сунгари примыкали свинарник и гимнастический городок.

Схема. Гарнизон на Сунгари-2. Архив УФСБ РФ по Хабаровскому краю
Территория военного городка была обнесена валом с проволочным заграждением. Имелось трое охраняемых ворот – главные, задние (или восточные) и ворота, ведущие к квартирам офицеров отряда Асано, которые имели разрешение жить вне гарнизона. Квартиры офицеров находились на краю выходившего к берегу Сунгари парка, здесь же размещалась небольшая церковь. Известно, что служил в церкви отец братьев Мустафиных – отец Николай, но сведений о том, в какой это было период, нет. В непосредственной близости от военного городка находилось отрядное стрельбище с артиллерийским окопом.
Жизнь отряда Асано строилась в соответствие с жесткими правилами японских уставов. В течение почти всего дня рядовой состав в расположении отряда перемещался только бегом. Подъем производился по звуку трубы в 5 часов (зимой – в 6, еще в полной темноте). После подъема солдаты строем бежали на уборку лошадей, на что отводился один час. Затем возвращались в казарму, в течение 20 минут умывались и убирали казарменное помещение. Вслед за этим отправлялись на чай (завтрак), занимавший не более 20 минут. После чая до 12 часов следовали занятия. Каждое занятие длилось 50 минут с перерывом на 10 минут. По окончании занятий в течение часа нужно было напоить лошадей и пообедать. Во второй половине дня снова проводились занятия до 16 часов, затем шла уборка лошадей, чистка оружия, приведение в надлежащий вид обмундирования и т. д. В 19 часов состав отряда отправлялся на ужин. После ужина были организованы занятия по японскому языку, после чего давалось свободное время. В 21 час проводилась вечерняя поверка, в 22 часа игрался отбой.[139]
Через шестьдесят лет после службы в отряде бывший асановец Виктор Винокуров так вспоминал свой первый день в армии: «Наутро, еще в темноте, труба проиграла подъем, и сержанты начали будить нас и выгонять на улицу становиться в строй „без последнего“, то есть последний получал плеткой по спине. Построились и бегом в конюшню, где нас расставили у каждого коня, которые стояли задом к проходу, и нужно было пройти к голове и надеть уздечку и вывести на водопой. Почти у всех промелькнула мысль: „А вдруг конь лягнет?“. В том месте протекала река Сунгари… куда надо было вести коней, где дежурные дневальные пробивали проруби. Конь сам знал, сколько ему пить, и мы ждали, когда конь отходил от реки, и только тогда мы могли возвращаться в отряд. В конюшне надо было дать коням корм и почистить щеткой. Конь мне попался недобрый, он всегда старался укусить меня за левое плечо, иногда до крови…


